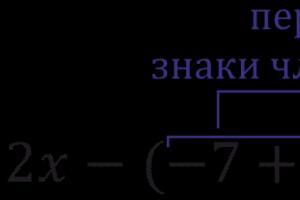Творец, субъект, женщина [Стратегии женского письма в русском символизме] Эконен Кирсти
Романтизм в символизме
Романтизм в символизме
Как неоромантическое направление, символизм имеет много общих черт с романтизмом, особенно с его идеалистической философией, доминированием категории творческого субъекта и акцентированностью категории фемининного. Романтическая философия, психология и понимание языка, выделенные, например, в исследовании Л. Будуан «Resetting the Margins» (Beaudoin 1997), во многом аналогичны мировоззрению русского fin de si?cle. Поэтому результаты исследований романтической литературы нередко можно «перенести» на явления культуры русского fin de si?cle. Например, высказывания А. Меллор (Mellor 1993, 28) в книге «Romanticism a Gender» о женском авторстве и гендерном порядке романтизма могут характеризовать также взгляды большинства русских символистов. Меллор, например, утверждает, что, несмотря на интерес романтических поэтов к женщинам, они никогда не создавали таких утопий, где женщины были бы самостоятельными, самобытными и, вместе с тем, респектабельными авторами (см.: Mellor 1993, 28).
Схожим образом многие результаты исследований русского романтизма совпадают с результатами изучения символизма. В качестве примера из сферы изучения русской литературы я приведу статью Юдит Ваулс «The ‘Feminization’ of Russian Literature: Women, Language, and Literature in Eighteenth-Century Russia». Ваулс показывает, как фемининность и женщины в контексте русского сентиментализма тесно связаны с развитием поэтического языка. В противовес классическому, ломоносовскому, стилю в романтической литературе появлялся «женский слог» - эмоциональный язык, подходящий для легких жанров и любовной темы. Ваулс указывает также на важность фемининной чувствительности для творческого субъекта, но приходит к выводу, что потребителями этого «женского» языка были чаще всего авторы-мужчины (Vowles 1994, 38–40). Ее вывод подтверждается высказыванием Меллор (Mellor 1993, 27) о том, что романтический творческий субъект заимствует такие фемининные качества, как, например, чувствительность, импульсивность, и ассимилирует фемининность с маскулинным субъектом.
Помимо частых совпадений в эстетике и в литературной практике романтизма и символизма, важно учитывать также совпадения в формах мышления. Эти совпадения делают возможным характеристику обоих течений в рамках сходных теоретических концепций. Например, Меллор акцентирует внимание на понятиях полярности и бинарных оппозиций романтической традиции.
Она говорит о расколе между субъектом и объектом («а split between the subject and the object») (Mellor 1993, 19), который проявляется в гендерно маркированной полярности творящего маскулинного субъекта и воспринимающего фемининного объекта. Фемининность объекта соотносится также с отождествлением женщин с природой - с концептом, одинаково важным (хотя и не идентичным) для романтической и для символистской эстетики. Как показывают антропологи М. Стратерн и К. Мак Кормак в книге «Nature, Culture and Gender» (Marilyn Strathern and Carol Mac Cormac 1980), в западной культуре оппозиция культуры и природы воплощается в оппозиции маскулинного и фемининного, причем фемининная природа и телесность связываются с немотой, а маскулинная рациональность и абстрактность обозначают активность. Далее, как показывает Меллор, бинарная модель ведет творческого субъекта к солипсизму (Mellor 1993, 20) - к тупиковой ситуации модернистского автора.
Несмотря на то что многие из тех функций фемининного, которые я рассматриваю ниже, можно обнаружить в романтизме и сентиментализме, все же гендерный порядок символизма нельзя назвать точным копированием романтизма. Русские символисты, как утверждает И. Паперно, пользовались литературой эпохи реализма как одним из источников своей неомифологической эстетики (см.: Paperno 1994, 22).
Рассматривая явление жизнетворчества в романтизме и символизме, Л. Гинзбург (Гинзбург 1999, 25) отмечает: романтическое уподобление жизни искусству основывалось на том, что в самой жизни была отвоевана сфера идеального, непроницаемая для низкой действительности. В символизме, пришедшем после реализма, жизнетворчество не могло «отряхнуть прах повседневности» и, как утверждает Гинзбург, поэтому оборачивалось гротеском, «мистическим шутовством». Трансформация романтической гендерной модели в символизме касается также гендерно маркированной категории природы. Постромантические идеи Вл. Соловьева и Н. Федорова о преодолении природного начала также были значимы для символистов в вопросе противопоставления природы и культуры. Для символистов природа больше не является моделью творчества, а творчество возвышается над природой: символистский творческий субъект волею своей индивидуальности творит аналогично тому, как Бог творил природу.
Различие между романтической и символистской традициями можно проследить также в оценке категории музы. В дискуссиях модернистов романтическая муза появляется в измененном виде: она отдаляется от отождествления с конкретным собеседником и сближается с категорией отвлеченной эстетической теории, с одной стороны, и с эротически активной «падшей женщиной», с другой. Мировоззренческое различие романтизма и модернизма, о котором пишут И. Паперно (Paperno 1994, 22) и Л. Гинзбург (Гинзбург 1999, 23–25), обозначает также перемену центральных для романтизма понятий Идеала, Красоты и Абсолюта, которые в символистском дискурсе потеряли свое господствующее положение. Их место занимают новые образы, наиболее влиятельным из которых был образ «Софии» Владимира Соловьева.
Из книги Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского автора Мережковский Дмитрий Сергеевич Из книги Расин и Шекспир автора Стендаль Из книги Природа фантастики автора Чернышева Татьяна Аркадьевна Из книги Теорія літератури автора Павлычко Соломия Из книги Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней автора Смирнов Игорь ПавловичГлава III. Романтизм и фантастика И в художественной практике, и в теоретических суждениях романтиков фантастика занимает немалое место. Независимо от разницы политических, философских и эстетических позиций романтиков различных национальных школ все они просто не
Из книги «Валгаллы белое вино…» [Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама] автора Киршбаум ГенрихРомантизм «Хорса» В альманасі «Хорс» приблизно це ж саме називалося «романтизмом».Закликавши членів МУРу до співпраці, колективних зусиль і служіння ідеалам народу, його засновники виступили і з дещо відмінною ідейною платформою. Так звана «окрема лінія» робила
Из книги Немецкоязычная литература: учебное пособие автора Глазкова Татьяна ЮрьевнаРомантизм «Звена» Поняття «романтизму» експлуатували так само редактори «Звена». (Журнал виходив в Інсбруку 1946 й на початку 1947 p.) І вони так само мали на увазі не зовсім канонічний романтизм. Перше число часопису (травень 1946 р.) його головний редактор Володимир
Из книги За стеной: тайны «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина автора Лаудер ДжеймсУкраїнський романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик «Питання про романтичну літературу на українському ґрунті належить до найменш з’ясованих», - говорив у своїх лекціях у 1927/28 академічному році Микола Зеров. І сьогодні заперечувати це твердження нема надто
Из книги От Кибирова до Пушкина [Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова] автора Филология Коллектив авторов -- Из книги Борис Пастернак: По ту сторону поэтики автора Гаспаров Борис Михайлович Из книги автора2.2.3. Романтизм, символизм и «Немецкий романтизм» В. М. Жирмунского В процессе критики символизма Мандельштам прибегает и к привычным для акмеистов выпадам против центрального понятия символизма - символа: «Alles Verg?ngliche ist nur ein Gleichnis. Всё преходящее только подобие. Возьмем,
Из книги автораРомантизм Сентименталисты и штюрмеры явились предтечами зародившегося в Германии на рубеже XVIII–XIX вв. нового культурного направления – романтизма. Распространению романтизма в Европе отчасти способствовала и Французская революция, провозгласившая созидание нового
Из книги автораВопросы (семинар «Романтизм») 1. Сочетание реалистического и фантастического в сказках Э.Т.А. Гофмана.2. Особенности сатиры в сказке «Крошка Цахес».3. Истоки сюжета новеллы «Удивительная история Петера Шлемиля».Задание Определите особенности жанра сказки, а также
Из книги автораРомантизм в «Песни льда и огня» Все вещи со временем меняются. За последние пятнадцать лет в жанре современного фэнтези неоднократно возникали новые тенденции – и одна из них, начало которой положил растущий успех «Игры престолов» Джорджа Мартина, оказалась устойчивой.
Из книги автораО концептуализации тела и телесности в русском литературно-философском символизме («тело - душа - дух») При всем резком различии «души» и «тела» никак нельзя отрицать, что они - два момента одного и того же человека. Л. Карсавин Интерес к телу и тенденция к
Из книги автора4. Рационализм и романтизм Невозможно не заметить, что, уклонившись с марбургского пути, художественная философия Пастернака оказывается в положении, приближающем ее к Йене. То, как Пастернак говорит о возможности обойти трансцендентальные законы разума в
V
ТИПОЛОГИЯ СИМВОЛИЗМА
Символизм как культурологическое явление и литературный стиль. Отличие символизма рубежа XIX— XX вв. от других исторических разновидностей символического искусства. — Общее представление о символе в литературе «конца века»: противоречие между целым и частью, глубинным и поверхностным, проблема парадокса, «двойного видения». Образ «мира, вышедшего из колеи», и Гамлета-художника. — Символизм и романтизм. Символизм и натурализм. — Манифесты символизма. «Поэтическое искусство» Верлена: отказ от риторики, музыкальность, суггестивность. «Манифест символизма» Мореаса. Эссеистика Малларме. — Символ и поэтическое слово, назначение поэта и поэзии. Символистский поиск идеала; трагедия творчества в символизме. — Символистские поэзия, проза, драматургия. — Импрессионизм в живописи и литературе, их сходство и отличия. Импрессионистический символизм. — Эволюция символизма от XIX к XX в. Основные типологические разновидности символизма и соотношение между ними: романтическо-платоновский символизм, феноменальный символизм (импрессионизм, эстетизм), неоромантизм. Ницше и неоромантизм
.
Символизм (фр. symbolisme, от греч. σύμβολον— опознавательная примета/знак) поначалу заявил о себе локально — во французской поэзии 1860— 1870-х годов. Оформление символистской поэтической программы во Франции приходится на середину 1880-х годов. Тогда же или несколько позже символизм через поэзию и поэтическое представление о задачах творчества связал себя в разных странах (Франция, Бельгия, Германия, Австро-Венгрия, Италия, Великобритания, Россия, Польша, Испания) не только с драматургией, прозой, критикой, но и с другими искусствами (живопись, музыка, оперный и балетный театр, скульптура, оформление книги и интерьера), а также с философией и богословием.
Общей для символистской культуры, сложившейся к 1900-м годам в международном масштабе, стала рефлексия о выявленном через творчество глубинном кризисе культуры и возможностях его преодоления. В основу мифологии символизма как явления культуры положены такие мотивы, как «гибель богов», «кризис индивидуализма», «переоценка ценностей», «конец века» (декаданс), «начало века» (модернизм), «трагедия творчества». Внутри символизма в силу его неоднородности не раз возникали контрсимволизмы, не раз казалось, что он «преодолен». Но шло время, и символизм из декадентской позы, эксперимента, чего-то крайне личного становился стилем и идеей, из идеи — не знающей точных хронологических границ эпохой, из эпохи — самой культурой в «брожении», обозначением того, что вроде бы утрачено, но так, вопреки всем усилиям и не обретено. Будучи одновременно итогом прошлого и проектом будущего, символизм, несколько раз возвращавшийся к себе на новых основаниях, открыт как в XIX, так и в XX век, охватывает приблизительно 1870—1920-е годы. Наличие в символизме измерения, связанного с идеей переходности культуры, указывает на то, что в творчестве многих писателей причудливо совмещены стилевые тенденции, которые при линейном подходе к истории литературы кажутся антагонистичными.
По традиции, принятой в российском литературоведении, имеет смысл условно разграничить модификации символизма, связавшие себя с образом «конца века» (импрессионизм, «символизм», неоромантизм, неоклассицизм), и символизм эпохи модернизма 1910— 1920-х годов (экспрессионизм, имажизм, сюрреализм, футуризм). Ключевые фигуры в символизме «конца века» — поэты П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, Э. Верхарн, П. Валери, П. Клодель, С. Георге, Р. М. Рильке, У. Б. Йейтс, драматурги М. Метерлинк, Ю. А. Стриндберг, Г. Д"Аннунцио, Г. фон Гофмансталь, прозаики Ж. -К. Гюисманс, М. Пруст, О. Уайлд, К. Гамсун, Дж. Джойс. Некоторые писатели рубежа веков (А. Франс, Р. Роллан, Г. и Т. Манны, Г. Джеймс, Р. Киплинг, Дж. Конрад), по- разному испытав влияние символизма, скорректировали его в своем творчестве внесимволистской традицией (просвещенческий философский роман, немецкий «роман воспитания», английский роман нравов, французские натуралистический роман и новелла).
О литературном символизме как у нас в стране, так и за рубежом написано громадное количество противоречащих друг другу работ. Это можно объяснить двумя главными обстоятельствами. Во- первых, важностью символизма не только для литературы, но и всей культуры XX в. Соответственно в обратной перспективе символизм, обозначивший себя поначалу локально, во французской лирике второй половины XIX в. предстает отнюдь не таким, каким он был на исходных позициях. Сфера его влияния в результате интенсивной рефлексии символистов о назначении творчества включает чуть ли не 1790-е годы. Поэтому символизм сопрягают с романтизмом и — через него — с проблемой ненормативного искусства в целом. Так, к примеру, творчество Гёте, не являясь ни романтическим, ни тем более символистским, часто рассматривается в контексте символизма. Иными словами, символизм, осмысляя свое положение в западной культуре, видоизменил представление о культурном каноне, сделал для себя по-особому значимыми не только писателей, но и мыслителей (от Платона и неоплатоников до Канта и Шеллинга, от Данте и Шекспира до Блейка и По).
Во-вторых, теория литературного символизма (нередко претендовавшая на постановку и обсуждение мировоззренческих вопросов) постепенно преобразовалась в самодостаточные общие теории символа (например, у К. Г. Юнга, Б. Рассела, Э. Кассирера). Понять при помощи философии символа принципы поэтики конкретных символистских текстов весьма затруднительно. Добавим, что символизм ставил некую творческую сверхзадачу, был утопической программой. Поэтому, затрагивая проблематику и образность произведений, он часто не проявляет себя на уровне их художественного языка, который в этом случае может быть и не символистским (романтическим и даже натуралистским).
В результате возникло распространенное представление о крайней сложности, если не заумности символизма, в то время как в действительности он не проще и не сложнее, чем другие ненормативные стили XIX в. Общим для всех них (романтизм, натурализм, символизм и их сочетания) является трагическое отчуждение писателя от мира, программное утверждение автором новизны (уникальной природы) именно своего слова, отношение к слову (видению мира сквозь различные ипостаси «я» — воображение, физиологию, подсознание) как к наиболее достоверной реальности. Иначе говоря, символизм сигнализировал о кризисе культуры, прочувствованном через кризис коммуникативных возможностей художественного слова. Он и внес в это переживание свои особые акценты, и усилил общую тенденцию культуры, вследствие чего под конец XIX столетия ей от лица литературы был поставлен вопрос о европейском декадансе — трагическом несовпадении в творчестве между видимой стороной жизни и ее подразумеваемым глубинным измерением.
Обратим внимание, что культурологический смысл символизма наметился по мере ускорения секуляризации. Общезападный резонанс сочинений Ф. Ницше — фигуры для символизма крайне важной — явно указывал на двойственность общественного сознания, которое было христианским по форме и далеким от христианства по содержанию. Эта проблема волновала, скажем, и Ч. Диккенса, однако, в^отличие от автора «Холодного дома», Ницше призывал не к единству веры, добра и красоты, а синтезу противоположного рода — к «срыванию всех масок», пробуждению в европейском человеке дионисийского, обнаженно индивидуалистического начала, которое до сих пор, по его мнению, было стеснено «лжеформой ». Ницше до предела заострил идею жизни как абсолютной свободы и непрерывного творчества. Ибсеновский Бранд говорит будто его словами: «Будь тем, кто есть». В свете этой формулы понятнее ницшевское требование «сверхчеловечества», которое приобретает вид особой диалектики — постоянного столкновения в творчестве формы и содержания с тем, чтобы настоящее было пережито обостренно, вне всякой связи с прошлым, «поэтически », «музыкально», «танцуя». Далеко не всем писателям рубежа XIX—XX вв. были близки нападки Ницше на христианство, но описанная им отрицательная диалектика творческого акта оказалась источником личного вдохновения, требованием максимально возможной жизненности творчества.
Литературный символизм в подобном смысле — это особый психологический настрой, жажда постоянного, пусть даже любой ценой (как показывает опыт Ш. Бодлера и А. Рембо), обновления слова, то есть обновления той символики отношения к миру, которая в восприятии символиста и есть мир. Не произнесенное поэтом, не пропущенное им сквозь себя, не существует. В этом — решающее отличие символистских установок от античного идеализма.
Если для Платона все в земном мире есть несовершенный отпечаток вечных идей, эйдосов, то у символиста «вечность» выступает продолжением земного и даже смертного начала — личного слова, приливов и отливов поэтического переживания. Еще вчера при одном настроении слово (как символ) претендовало на новизну, сливалось с душой и телом, было «жизнью», а сегодня, при смене обстановки и освещения, становится под знаком изменчивости сознания дряблым, манерным, «только литературой». Таково, при некотором обобщении, символистское стихотворение. Не упражнение на сложность формы или изящная безделушка, не рифмованное сообщение о чем-то внепоэтическом или законченный живописный образ, не даже цепочка предсказуемого переноса смысла (в виде аллегории и метонимии), а само звучание, поэтический ток жизни, обособленный, насколько это возможно, от прямого значения слов и в виде напряженного и переменчивого ритма бегущий от строки к строке, создавая не иллюзию переживания, но само переживание. Отсюда — самое простое определение символа.
Символ — это то, как намерен писать на пределе своих возможностей символист. Это (в виде стихотворения, пьесы, романа) «портрет» его единственно на данный момент подлинного — или «лирического» — бытия. Лирическое напряжение свойственно всем главным проявлениям литературного символизма. Поэтому самыми значительными его теоретиками стали либо «рассуждающие» поэты, либо прозаики и драматурги, параллельно занимавшиеся поэзией: Ш. Бодлер, С. Малларме, М. Метерлинк, О. Уайлд, Д. Мережковский, Вяч. Иванов, А. Белый, Б. Пастернак, У. Б. Йейтс, Э. Паунд, Дж. Джойс, Т. С. Элиот, С. Георге, Г. фон Гофмансталь и, разумеется, Ф. Ницше, писавший стихи и считавший себя в первую очередь лириком, а не философом. (Напомним, что Г. Флобер, братья Гонкуры, Э. Золя также мечтали о совмещении прозы и поэзии.) Затем на основе этого поэтического импульса (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме) и поэтического философствования (1880-е годы во Франции) был поставлен вопрос о символизме в драме (1890-е годы), в романе (1890—1900-е годы), в философии (от А. Бергсона, У. Джеймса, В. Дильтея, неокантианцев в 1890—1890-е годы до М. Хайдеггера в 1920-е годы).
Итак, символ — интуитивное переживание мира, «вышедшего из колеи», как говорил Гамлет {Гамлет-художник, один из излюбленных символистских персонажей). Настаивая на кризисе культуры (вскрытом через творчество) и требуя его преодоления, символисты особую миссию возлагали на писателя, подобно Гамлету, носителя «двойного религиозного сознания» (выражение П. Флоренского).
Он — одновременно носитель утраты и обретения, призван взамен исчерпавших себя в языке форм реальности найти личные основания для созидания новых слов-форм реальности и даже, в некоторых случаях, сверхреальности. Отсюда парадоксальность символистского голоса — он, хотя и грезит о священной простоте, как бы сакральном звучании впервые произнесенного именно им слова, ничего не может сказать «просто так». Для утверждения искомой новизны ему требуется особая, почти что непосильная, тонкость слуха — знание всех мелодий и тональностей, которые существовали в поэзии до него. Как Гамлет, лирический поэт при этом берется ни много ни мало за искупление всего поэтического рода, а также утверждает, что мир в слове «прогнил », «фальшивит». Сознание символиста при такой посылке в языке равновелико миру и вселенской истории: не пережитое лирически — не существует. В этом смысле лирическое «я» символиста не знает пределов — границ между прошлым и настоящим, высоким и низким, предсловом и вербализацией слова, лицом и его поэтическим соответствием («маской»), личным словом и цитатой, рифмой и отсутствием рифмы (в свободном стихе), прозой и поэзией, стихотворением и романом, писателем и критиком.
Мысль о принадлежности всех литературных родов и жанров поэзии были известна античным авторам, Тёте, романтикам, но именно символисты придали ей последовательно субъективный смысл. Несмотря на декларируемый отказ от «обветшалых» условностей, «новая поэзия» была не только символической, но и достаточно традиционной — слишком уж весомы были во Франции позиции классического (александрийского) стиха. Вместе с тем в ней обращала на себя внимание особая плотность фактуры, нервная напряженность ритма, многосторонняя поэтическая оснащенность автора — как независимого и глубоко субъективного исполнителя, так и увлеченного читателя-слушателя поэзии всех времен и народов, филологического гурмана, переводчика, умеющего на основе личного предпочтения выстроить «всемирную аналогию» (Ш. Бодлер).
Символизм поставил рубеж поэтическому изоляционизму и отрезку чисто национального развития поэзии в XIX в. Плох ли был поэтический символизм по сравнению со своими антагонистами (классицизм) и предшественниками (романтики, «парнасская школа» во Франции) или хорош, но очевидно, что вызванные им общая лиризация и субъективизация поэзии, а также отвечающее этим нуждам расшатывание традиционной версификации привели к тому, что досимволистское письмо в начале XX в. стало казаться несколько архаичным. Разумеется, обращала на себя внимание и антибуржуазность поэтического символизма — творческое неприятие тех, кто либо не читает поэзию вовсе, либо в силу своей вульгарности воспринимает ее как набор ходульных рифм. Этимология слова «символ» (древние греки делили дощечку на две части так, чтобы каждая из них могла служить «паролем») отсылала к его современному смыслу.
Во-первых, символистами с середины 1880-х годов стали суммарно называть тех, кто поддерживал решительное обновление поэтических норм и, следовательно, мог быть узнан другими бунтарями при «предъявлении» тайного знака, своих непонятных для большинства читателей стихотворений.
Во-вторых, слово «знак» (соответствующий древнегреческий глагол — «означать», или «связывать между собой») приглашало к размышлению о нарушившихся в творчестве отношениях части и целого, субъекта и объекта, означающего и означаемого. Символизм в этом смысле — философия художественного языка, претендующего в эпоху «переоценки ценностей» на особые (смысло- порождающие) права.
Французский поэтический символизм (подробнее о нем см. следующую главу) имел нескольких предшественников. Это творчество романтиков (в первую очередь В. Гюго), парнасцев (Т. Банвиль, Ш. Леконт дё Лиль), с одной стороны, и Ш. Бодлера (а также Ж. де Нерваля) — с другой. Если отношение к Бодлеру у поколения П. Верлена и С. Малларме было в целом восторженным, и автор «Цветов зла» фактически оказался сделан ими культовой фигурой, превращен в первого символиста (коим, думается, все-таки не являлся 1 , хотя и высказал в статьях разных лет о романтизме немало мыслей, предвосхитивших символистскую эстетику), то отношение к В. Гюго было по меньшей мере двойственным. Признавая то многое, что Гюго сделал для преодоления классицизма, символисты тем не менее критиковали его с позиций, вызывавших в памяти лозунг «искусство для искусства». Он был выдвинут Т. Готье в предисловии к роману «Мадемуазель де Мопен» (1835). Гюго в подобном восприятии излишне гражданственен и назидателен, многословен и «цветист», излишне сюжетен и описателен — подчиняет поэзию, иллюстрируя стихами разные идеи, внепоэтическим (или «утилитарным») задачам. Романтике Гюго символизм по примеру Бодлера и парнасцев намерен противопоставить классицизирующее начало, идеал «чистой поэзии». Чем будет подобная классика применительно к романтической традиции?
Ответу на этот вопрос посвящено знаменитое стихотворение «Поэтическое искусство» (L"Art poetique, 1874, опубл. 1884) П. Верлена, в котором наряду с использованием одной из самых строгих поэтических форм (сонет) поэт, словно иронизируя над поэтическим трактатом (1674) Н. Буало, позволяет себе говорить о «высвобождении » (vers libere) стиха, даже в эпоху романтизма, по его мнению, не избавившегося от обветшалых правил поэтического академизма. Верлен призывает «свернуть шею риторике» (или «красноречию » александрийского стиха). Главное для него — «музыка», «странные черты слов», «слитность зыбкости и точности», «полутона ». Имеется в виду то лирическое, внутреннее состояние «я» (Верлен даже готов назвать его «хмельным»), при котором поэт подобен струне (отсюда — ироническое название символистов, «цимбалисты»). Любое, и даже самое приватное событие в его жизни, способно вызвать ее дрожь. Длина и тональность этого тайного звучания-переживания, по-музыкальному бесплотной ритмической фигуры в каждом конкретном случае разная. Передать ее можно по мере обрастания ритма плотью опять-таки звучащих, вступающих преимущественно в тональные, а не образные, сочетания слов.
Символическое стихотворение поэтому — опыт вербализации исходного ритмического откровения (музыки), попытка удержать звукосмысл, который может в силу своей мимолетности исчезнуть, не получив необходимого коррелята. Возникнув на грани сознательного и бессознательного, поэзия и на читателя, в представлении Верлена, должна производить по возможности полубессознательное, или суггестивное воздействие, — такое, какое на слушателя производит музыка, являющаяся, согласно названию верленовской книги стихов, «романсом без слов». Требования Верлена были поддержаны и в других программных документах французского символизма. Поэт Ж. Мореас, составивший манифест символизма (Le Symbolisme) и опубликовавший его 18 сентября 1886 г. в газете «Фигаро», утверждает следующее: «Враг всякой дидактики, "риторики, ложной чувствительности, конкретных описаний", символистская поэзия стремится облечь Идею в чувственно воспринимаемую форму; но это не самоцель — форма, помогая выражению Идеи, по отношению к ней вторична. Однако Идея не должна опасаться, что будет уловлена через свои богатые внешние соответствия; по сути своей символическое искусство верит в недостижимость Идеи». После появления мореа- совского манифеста за всем новым в поэзии закрепилось наименование «символизм» вместо в чем-то аналогичных обозначений «пленеризм», «декаденство», «идеализм». Оно вызвало одобрение далеко не у всех поэтов, но, как выяснилось позже, оказалось из всех артистических неологизмов самым стойким.
Если Мореас, рассуждая об Идее, настаивал на мистическом характере поэзии и по-бодлеровски перебрасывал мостик от априорной таинственности ритма к многообразным конкретным возможностям тропа, то у С. Малларме «тайна поэзии» связана (предисловие к «Трактату о Слове» Р. Гиля, 1886; интервью «О литературной эволюции», 1891; эссе «Тайна в словесности», 1896) с обратным движением лирического сознания — от конкретного к абстрактному.
В обычной жизни язык выполняет утилитарную функцию, сводится к слову-репортажу, слову как необходимости постоянного говорения («шуму слов»), слову-товару («монете»).
Главная задача поэзии, по Малларме, — «молчание», такое ритмическое ударение и такое возникшее в итоге сцепление слов, которое нарушает привычные цепочки смысла и придает ему, обособляя означающее от означаемого, прежде всего звуковую, или чисто ритмическую энергию: «Я говорю: цветок! и вот из глубин забвения, куда звуки моего голоса отсылают силуэты всевозможных цветков, всплывает нечто иное, чем виденные мной"раньше чашечки цветков, — сама музыкальная идея цветка, сладостная, ее не найдешь ни в одном букете... Стих, переплавляющий несколько вокабул в одно цельное, новое слово, в слово-заклинание, неведомое обычному языку, завершает этот процесс речевого обособления»; «Парнасцы берут вещь и показывают ее целиком, отчего им не достает тайны; они и читателей лишают восхитительной радости сознавать, что те сами — творцы. Назвать предмет — значит на три четвертых разрушить наслаждение от стихотворения, состоящего в счастье понемногу угадывать: внушать — вот в чем мечта. В совершенном применении тайны и состоит символ — исподволь вызвать предмет в воображении, чтобы передать состояние души или, наоборот, избрать предмет и, шаг за шагом разгадывая его загадку, выявить состояние души».
Подобная трактовка символа была свойственна тем поэтам, которые по примеру Бодлера боготворили музыкальное искусство Р. Вагнера и в основном группировались вокруг Малларме, с 1880 г. устраивавшего знаменитые «литературные вторники» на своей парижской квартире. Несколько иными были акценты у А. Рембо в сонете «Гласные» (Voyelles, 1871, опубл. 1883) и главке «Алхимия слова» (L"Alchimie du verbe) из прозопоэтической книги «Лето в аду» (Une Saison en enfer, 1873): «Я придумал цвет гласных!.. Я установил движение и форму каждой согласной и льстил себя надеждой, что с помощью инстинктивных ритмов изобрел такую поэзию, которая когда-нибудь станет доступной для всех пяти чувств... Я писал молчанье и ночь, выражал невыразимое, запечатлевал головокружительные мгновенья». Если Верлен и Малларме, призывая к высвобождению стиха, пытались перестроить поэзию изнутри и добиться свободной вариативности размера все-таки в рамках силлабического стиха, то Рембо наметил чисто экспрессивное развитие поэзии, «верлибр» (фр. le vers libre — свободный стих). Независимо от него по этому пути пошел американец У. Уитмен в лирическом эпосе «Листья травы».
По сравнению со стилистикой Верлена 1860-х годов, сообщавшей о невыразимом и душевно сложном сравнительно просто, по-элегически прозрачно, в плоскости своеобразного скольжения по поверхности, верлибр Рембо времен «Озарений» (Illuminations) гораздо более экспериментален, не страшится о неясном сообщать хотя и неясно, но весьма энергично, почти что крича. Такой подход предполагает отказ от выверенного музыкального ритма ради «ныряния в глубины», взрывчатой изменчивости ритма, уходящего своими корнями в подсознание, которое и пытается выплеснуть поэт в виде огненной лавы, неразложимых сгустков энергии.
Верлибр (его элементы налицо в поэзии Ж. Лафорга, Э. Дюжар- дена, Э. Верхарна, П. Клоделя) у Рембо в таких стихотворениях, как «Морское», «Движение» (из книги «Озарения», 1872—1875, опубл. 1886), опирается на полное устранение рифмы и замену ее ассонансом, на использование вместо регулярной двенадцатисложной строки одиннадцати-, десяти-, восьмисложных строк, на ослабление синтаксических связей, нарушение правил пунктуации.
Цель этой революции в отличие от музыкального верленовского «иллюзионизма» — яростная интенсивность и даже предметность переживания (его следует «ощутить, пощупать, услышать»), внелогичная метафоричность (сопрягающая без всяких переходов заведомо несопрягаемое), выразительность слов как ярких цветовых пятен, усиление роли назывных предложений и повелительного наклонения. Можно сказать и иначе. Рембо не отказался от символистской музыкальности, но по-богоборчески изгнал из нее видимость всякой классической мелодии, всякого классического размера.
Оригинальные трактовки символизма, увиденного сквозь призму поэзии, появились не только во Франции (к вышеназванным текстам следует добавить эссеистику П. Валери — статьи «Положение Бодлера», 1924; «Письмо о Малларме», 1927; «Чистая поэзия », 1928; «Существование символизма», 1938), но и в других странах. Выборочно назовем здесь критическую прозу О. Уайлда («Критик как художник», «Искусство лжи» в книге «Замыслы», 1891), У. Б. Йейтса («Поэтический символизм», 1900; «Общее предисловие к моим стихам», 1937), Т. С. Элиота («Гамлет и его проблемы », 1919; «Традиция и индивидуальный талант», 1919), Э. Паунда («Серьезный художник», 1913; «Провокации», 1920), Г. Бара («Преодоление натурализма», 1891), Г. фон Гофмансталя («Поэзия и жизнь», 1896; «Поэт и нынешнее время», 1907), Р. М. Рильке («Огюст Роден», 1903), И. Анненского («Книги отражений», 1906 — 1909), А. Блока («О современном состоянии русского символизма», 1910; «Крушение гуманизма», 1919), А. Белого («Символизм», 1910; «Луг зеленый», 1910), Вяч. Иванова (от «Двух стихий в современном символизме», 1908, до «Simboiismo», 1936), В. Ходасевича («Символизм», 1928; «Некрополь», 1939), Б. Пастернака («Символизм и бессмертие», 1913; «Поль-Мари Верлен», 1944).
Символ для писателей рубежа XIX—XX вв. при некотором обобщении — не искусно произведенная шифровка и не иносказание (наподобие притчи, аллегории), как часто ошибочно считают, а выявление в языке «подлинности», «красоты» явления, в реальной жизни этой красотой не наделенного. Вся ценность в глазах художника (об этом заявило еще название бодлеровских «Цветов зла»), в интуитивно избираемой им при выполнении конкретной художественной задачи стратегии смысло- (в виде неизвестного ранее тропа) и ритмообразования. То есть красота — это то, насколько оригинально и насколько концентрированно, «искренне », в соответствии именно с самим собой и своими личными языковыми требованиями, выполнена вещь в виде ритмического рисунка слов, преодолевшего сопротивление исходного материала. Конечно, это идеальная установка, далеко не всегда выдерживаемая в поэзии и тем более в прозе. Символ здесь — таинственная в своей неисчерпаемости материя слова, которую символисты считают продолжением самих себя, а оттого пытаются познать, чтобы обрести в ней искру некоего творческого первопринципа жизни, искру похищенного у богов священного огня.
Но к чему бы ни стремились символисты — к поиску Тайны имяобразования, к расщеплению слова на видимость (образ) и музыкальную сущность (ритм) или к заклинанию звука и его экспрессивному овеществлению (Рембо полагал, что у каждого звука есть свой цвет), — всем им в том или ином виде было присуще представление о превосходстве творчества над жизнью. Ярче других иллюстрирует этот тезис О. Уайлд в эссе «Упадок лжи». XIX век, утверждает этот мастер символистского парадокса, заглянул в зеркало «Человеческой комедии» и узнал себя. До этого его не было. Точнее, физически он существовал, но не был наделен красотой. И только под пером Бальзака обрел артистическое измерение. После Бальзака, навязавшего нам в силу таланта свое видение, мы не можем воспринимать XIX в. не по-бальзаковски, минуя призму его прекрасной лжи.
Уайлд имеет в виду такую творческую индивидуальность, которая, пережив ту или иную драму разочарования, не намерена иметь дело с пошлостью, буржуазностью, утилитарностью современного мира и противопоставляет всем его удобным формам и безличным категориям личную интуицию. Все существует (или получает оправдание) только в переживании творческой натуры, которая намерена проникнуть за завесу «комедии», «карикатур» — косного и нетворческого начала. Этот порыв от прирученной или мертвой природы к творящейся в сознании Поэзии получил в символизме название «сверхнатурализма», «искусственного рая» (Бодлер), «противоестественности » (Гюисманс), «грёзы» (Малларме), «сверхчеловека » (Ницше), «остановки времени» (Рембо), «епифании» (Джойс), «обретенного времени» (Пруст), «дегуманизации искусства » (Х. Ортега-и-Гассет).
Разделение всеобщей природы на внешнюю природу, личную природу и природу творчества, намеченное культурой XIX в., постепенно привело к смене мимесиса (риторическое подражание миру как идеальной соразмерности) на самоподражание. В его основе особый тип религиозности, трагическая вера в смертного поэта как носителя бессмертия, мифологического начала. Смысл этой веры в символическую значимость сознания, памяти, воображения, жеста, а также в сверхреальность мира именно как художественного явления можно передать, переиначив известные выражения Р. Декарта («Только когда я говорю о мире и даю ему имена, мир существует»), Л. Фейербаха («Тайна богословия — это тайна антропологии»), Ф. Ницше («Умерли все боги, родились поэты»). Об этом же говорят знаменитые пастернаковские строки: «Не спи, не спи художник, не спи, противься сну. Ты вечности заложник у времени в плену».
Итак, гений символистского автора в том, что, обладая интуицией, он на свой риск и страх вскрывает противоречие между означаемым и означающим, сталкивается с не привязанной к месту (привычному пространственному образу) и потому грозной энергией слова. Так, по логике М. Метерлинка, в драме «Слепые» (1890) слово «смерть» само по себе лишено подлинности: мертвые не описывают смерть; сознание живого человека, чаще всего отгораживаясь от мысли о своей кончине, спит; смерть, хотя и страшна для человека, как таковая невидна, незрима, лишена самостоятельных очертаний. Но не таковы трансформирующие абстракцию в конкретное переживание поэт и поэзия. Они выведены в лице двенадцати незрячих, которые, пережив исчезновение своего поводыря (нормы своего существования), испытывают ужас и вдруг начинают из глубин своего молчания каждый по-своему говорить, «зреть», Знать. Пробуждение мертвых при жизни к новой жизни, преображение конечности в начало, согласно Метерлинку и ниц- шевским заявлениям о смерти Пана, — это акт свободы, интуиция о неполноте бытия вне художника, который, кивая на просвечивание «иного» в «данном», так или иначе ставит вопрос о сверхчеловечестве искусства.
То есть символ с позиций символизма — это сам поэт как носитель вербальной априорности бытия. Он «не пользуется» словом — «не повествует», «не объясняет», «не учит» и т. п. Он в слове и слово в нем: раздается, звучит, изливается — квинтэссенция его человечности именно как творчества. Важно подчеркнуть, что символ в этом смысле не столько проект всезнания или приведения раздробленного на фрагменты мира к некоей целостности, сколько отрицательное усилие — сигнал об ущербности, молчании мира без художника. По-своему ущербен и символист — он не вполне знает, о чем говорит, обречен отделять «форму» от «содержания», вынужден подвергать свои ощущения (единственный источник вдохновения) непрестанному лингвистическому анализу.
Уже немецкие романтики, размышляя об иронии, двойниче- стве и связанном с ними безумии, представили яркую картину трагизма творческого познания.
Э. По нарек творчество «демоном противоречия». Пессимизм символистов по поводу адекватности интуиции исполнению, а также самой возможности коммуникации в слове выражен гораздо сильнее.
Для Бодлера это — «великое Ничто», «любовь-ненависть», «насилие над музой», для Верлена — «проклятость поэта», для Уайлда — «убийство любви» («мы убиваем тех, кого любим»). Свои последние письма Ницше, считавший себя первопроходцем психологических разоблачений и искателем абсолютной искренности слова, подписывал словом «распятый».
Что же обращает доверие к себе, которое призвано искоренить косность готовых слов и привести их к музыкальной вибрации, в его противоположность — абсолютную недостоверность личного слова, полное молчание? Если многие романтики вплоть до 1840-х годов сохраняли веру в Абсолют и мир как в «восьмой день» творения (отсюда — богатая аллегоричность их поэзии и прозы), то символисты, постепенно размыв границу между внешним и внутренним миром, признали творческое сознание единственным носителем подлинного бытия. Это сделало материал их творчества крайне разнообразным (современный быт, вещи, чужой текст), освободило его от некоторых условностей жанра и сюжета, свойственных романтизму начала XIX в. Однако, отчуждая в себе самих подлинность слова от неподлинности, символисты, как показывают их биографии, столкнулись с серьезными проблемами. Одни из них унаследованы от романтиков — сплин, горделивое одиночество, психический надрыв, искание смерти. Другие — новоприобретенные.
Ставя перед собой задачу постоянного обновления слова и «тотализации поэзии» (П. Валери), символисты понемногу исчерпывали версификационные и стилистические возможности своего вдохновения, сталкивались с непреложностью самоповторения.
В этой ситуации понятен предельно заостренный ими выбор: или заключение некоего «фаустовского» пакта, или возвращение к жизни буржуазного автора, хладного гения, классика в одной плоскости и филистера — в другой. Подобное раздвоение, тщательно исследованное по следам эпохи Т. Манном (от новеллы «Смерть в Венеции » до романа «Доктор Фаустус»), вело их по примеру боготворимого ими Э. По к насилию над своими же ритмами и метафорами к искусственной интенсификации вдохновения (наркотики, алкоголь, перверсия, эротомания, «автоматическое письмо» в состоянии транса). Конечно же, подавляющее большинство символистов вовсе не мечтали повторить опыт «сатанизма» Бодлера, жизнестроительства А. Рембо и О. Уайлда, оккультных экспериментов У. Б. Йейтса, безумия А. Стриндберга, но вместе с тем им была понятна литературная суть проблемы.
Символист, интуитивно пытаясь нащупать за знаком («видимостью ») слов их образ, смыслопорождающий импульс, — а символ, по одному из определений, есть образ, взятый в своем знаковом аспекте, — в процессе рассечения словесного строя собственного сознания открывает в нем как профили новизны, так и недостоверность очередных своих и все более сложных открытий (самоотражений). Это разрушение-созидание подводит символиста к ощущению эха «уже сказанного» на самом тонком (фонематическом) уровне смыслообразования, к ужасу «дурной бесконечности » слов («волн тошноты нездешней», по А. Блоку), бесформенного и вязкого начала в темных глубинах сознания. Бодлер в «Цветах зла» выводит образ «двойной бездны», где может заблудиться поэт, с некоторой рисовкой. Иное отношение к проблеме границ поэзии у следующего, собственно символистского, поколения поэтов.
В частности Малларме, атеист, человек в выражении эмоций весьма сдержанный, долгое время относится к стихам как к подобию Книги, возникающему на поверхности непроницаемого моря материи («молчания») прозрачному кружеву ритма. Таким предстает перед читателем его Лебедь, само материализованное молчание (лебедь вмерз в лед, стал прозрачностью). Однако финальное наблюдение Малларме о водах творчества («Бросок костей никогда не упразднит случая», 1897) иное. Поэзия — не более, чем полная случайность, пена на поверхности темного океана материи, готовая в любой момент, как и человеческая жизнь, навсегда рассеяться...
Еще более последовательно проходит путь символизма на чисто художественном уровне Дж. Джойс. Каждый следующий его роман — трагикоироническая реплика об исчерпанности стилистического потенциала предыдущего. Уже «Улисс» (1922) показался писателям-современникам пределом возможного в блуждании по морю литературного сознания в поисках чего-либо достоверного («отцовского»), однако в следующем, неоконченном романе («Поминки по Финнегану», 1939) этот поиск был продолжен и фактически оборван. Сильнейшие сомнения в возможностях поэтического слова «вместить все» приводили к периоду многолетней немоты у Р. М. Рильке, П. Валери.
Речь идет об утончении ткани творчества и предельной концентрации стиля, что выносит в центр поэзии не результат, а «плавание » за ним. В установке на предельную цену творческого акта, или «сверхчеловечество», символизм раскрывается как преодоление позитивизма и неклассический тип идеализма. Утверждая новый тип идеального, символизм размывает рамки «исторического» христианства и уподобляет самопознание в творчестве и философию языка богоискательству. Это искание Бога в личном языке может соотноситься с христианством или более или менее прямо (в поэзии П. Клоделя, позднего Т. С. Элиота), или образно (тема Христа как художника в уайлдовском «De profundis», опубл. 1905), а также трактоваться в плане религиозного модернизма (Д. Мережковский) и мистической анархичности (У. Б. Йейтс, А. Белый), пародийно (Вилье де Лиль-Адан, Дж. Джойс), но может и опровергать его с позиций богоборческих (X. Ибсен, Ф. Ницше, А. Рембо), эстетских (С. Георге), почвеннических (поэзия Р. Дарио, А. Мачадо) или декларирующих подчеркнутое равнодушие к религии посредством стоической преданности Поэзии (А. Франс, П. Валери, М. Пруст).
Однако трагичность и даже катастрофичность творческого самопознания, по-разному знакомая каждому крупному символисту, лишь подчеркивает дерзновение его исканий, «плавание» за постоянно ускользающей подлинностью слова (у Рембо — на «пьяном корабле», у Йейтса — в эзотерический Византии, у Т. Манна — в «другую страну» любви, у Э. Паунда — за компанию с вергилиев- ским Энеем).
Если отвлечься от соответствующей символистской образности, то следует сказать, что символисты, ставя перед собой творческую сверхзадачу (поиск Бесконечности, Образа в знаках заведомо конечного, безобразного), не ограничивали ее темой своих произведений. Конечно, в их жизнетворчестве («проклятость» Верлена, дендизм Уайлда, язычество Георге, богоискательство Мережковского) ощущался, с одной стороны, характерный для эпохи элемент декадентской позы. Но, с другой стороны, кто рискнет сказать, что конфликт человека и художника, получивший столь острое развитие в судьбах Бодлера, Рембо, Ницше, Блока, Цветаевой, был придуманным, книжным? Так или иначе, но именно символисты утвердили миф о писателе, Орфее-Гамлете-Бранде, приносящем себя в жертву ради спасения человечества. Доверие к этому образу столь укоренилось, что вплоть до Первой мировой войны и эпохи тоталитаризма 1930-х годов, нанесших индивидуалистической мифологии непоправимый урон, писательство получило незнакомое ему ранее общественное признание.
Итак, именно символическая поэзия в процессе пересмотра традиционных принципов стихосложения выдвинула важнейшие для символистской культуры требования музыкальности, суггестивности, многозначных вариаций слова-символа, а также обособила символ от аллегории (еще при Гёте эти понятия были почти что тождественными), символ от метонимии. Новации символической поэзии сделали возможным мечту о символистском романе (подробнее об этом см. в следующей главе). Этот проект на тему возможностей поэтической рефлексии в большом повествовательном жанре оказался одной из самых сложных задач символизма, которая, пожалуй, оказалась реализованной лишь фрагментарно. Думается, что символистские романы в точном смысле слова были написаны прежде всего поэтами, а также теми, кто мыслил об искусстве прозы «по-поэтически» и относился к роману как одной из модификаций поэзии. Стержень подобных произведений (или «романов в романе») — становление символистской восприимчивости, портрет романтическо-символистского художника в юности, воссоздание той ситуации, при которой становится возможным лирический тип творчества. К таким романам, по-своему продолжающим традицию «романа воспитания» Гёте и романтического романа о художнике, следует отнести, на наш взгляд, «Наоборот » (1884) Ж. -К. Гюисманса, «В поисках утраченного времени » (1913—1927) М. Пруста, «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910) Р. М. Рильке, «Портрет художника в юности» (1916) Дж. Джойса, «Шум и ярость» (1929) У. Фолкнера, «Петербург (1913 — 1914) А. Белого, «Защита Лужина» (1930) В. Набокова, «Доктор Живаго» (1957) Б. Пастернака.
Однако многие символистские романы и новеллы (взаимопереход прозы и поэзии в новелле облегчен) были таковыми преимущественно по своей проблематике, тогда как их образность и стилистика имела и много общего с различными вариациями постромантизма и постнатурализма. К примеру, в программно символистском по обсуждаемому в нем кругу вопросов романе «Портрет Дориана Грея» (1891) несложно найти элементы зависимости О. Уайлда от Бальзака («Шагреневая кожа», «Неведомый шедевр»), Золя («Творчество»), Гюисманса («Наоборот») и даже Гёте («Фауст »). Очень причудливо совмещены традиция бытописательной прозы, натурализм, импрессионизм и символизм (или «неоромантизм », как одно время его называли в Германии) у К. Гамсуна, Т. Манна, что не мешает, к примеру, роману «Мистерии» (1892) Гамсуна или новелле «Смерть в Венеции» (1913) Манна быть характерными символистскими произведениями. И подобное совмещение «противоположностей» вовсе не исключение из правил.
Часто забывают, что европейская литература второй половины XIX в. весьма неоднородна и в ней параллельно существуют множество лишь примерно соотносимых друг с другом писательских миров. Тем не менее далекие от внешнего подобия и тем более близости к некоей литературной норме, они обнаруживают типологические переклички. Выявить их чаще всего мешают не тексты как таковые, а крайне противоречивые и от декады к декаде менявшиеся авторские самохарактеристики. Историки литературы воспринимают их подчас буквально, выстраивая необратимую линию литературной эволюции, но для самих писателей они достаточно приблизительны, имеют характер метафоры.
Сравнивая поэзию и прозу во Франции во второй половине XIX в., нельзя не обратить внимание, что символизм, не именуя себя символизмом, проходит приблизительно пятнадцатилетний путь развития на территории натурализма. Многие писатели (к примеру, Ж. -К. Гюисманс) естественно для себя эволюционируют от «натурализма» к «символизму», считая одно продолжением другого. Малларме бывал на «четвергах» у Золя, искренне восхищался его стилем («... литературный элемент сведен у него по возможности к минимуму»), а А. Жид уже в пору громкой славы, и отнюдь не по политическим причинам, включил «Жерминаль» в число десяти лучших французских романов. Фактически французская натуралистическая проза — и это стало очевидно к концу 1870-х годов — по-своему приходит к тем открытиям, которые параллельно ей на своем языке наметила поэзия. Взаимозависимость между натурализмом в прозе и символизмом в поэзии позволяет установить импрессионизм.
Импрессионизм (фр. impressionisme, от impression — впечатление) возник во французской живописи в 1860-е годы. Постепенно черты этого живописного стиля стали переносить на поэзию (П. Вер- лен), новеллистику (Г. де Мопассан), драматургию (А. Шницлер), литературную и художественную критику (А. Франс, Г. Бар), Музыку (К. Дебюсси, М. Равель), скульптуру (О. Роден), философию (Э. Мах). Существенно, что современники считали импрессионизм в живописи ближайшим спутником литературного натурализма.
Однако как самостоятельный литературный стиль именно под таким названием импрессионизм не оформился. В то же время импрессионистические открытия в живописи были с учетом специфики художественного слова востребованы как натурализмом, так и символизмом. Чтобы понять, каким образом импрессионизм воздействовал на эволюцию французской литературы, необходимо хотя бы кратко изложить его художественную программу.
Название стиля восходит к выставке «Анонимного общества живописцев, скульпторов, граверов и т. д.», открывшейся в Париже 15 апреля 1874 г. Из выставленных 165 полотен 51 работа принадлежала П. Сезанну, Э. Дега, А. Гийомену, К. Моне, Б. Соризо, К. Писарро, О. Ренуару, А. Сислею, то есть кружку молодых художников, сплотившихся в 1860-е годы вокруг лидера «непризнанных» Э. Мане (никогда не выставлявшегося с младшими товарищами). Под № 98 в каталоге числилась работа Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872).
Согласно утверждению Моне, этот холст с видом на бухту в Гавре (несколько туманно виднеющихся мачт и корабль) первоначально назывался «Восход солнца», но по требованию составителей каталога он расширил название. Экспозицию высмеял критик Л. Леруа (статья «Выставка импрессионистов»). Кличка, придуманная им, вскоре была принята ее участниками, позднее устроивших еще семь выставок (1876— 1886), после чего объединение распалось и лишь Моне продолжал настаивать на своем импрессионизме.
Считавшие себя преемниками Э. Делакруа, Г. Коро, Дж. Констебля, У. Тернера и в особенности Э. Мане, молодые художники не вкладывали в слово «импрессионизм» излишне программного смысла. Для них это была форма протеста против принципов классицистического академизма, а также «необузданных» фантазий художников-романтиков (работавших в студиях). Импрессионизм, как параллельно и натурализм в литературе, решил совместить оригинальность личного взгляда и «научную» строгость приема для того, чтобы не только схватить природу в движении, но и открыть секреты ее переменчивого оптического воздействия. Работе в студии импрессионисты противопоставили выход на пленэр (от фр. plein air — свежий воздух). Краски они подбирали прямо на холсте, спонтанно и разрабатывали такой тип мгновенного пейзажа, который строится на волновых эффектах света — его всегда новом, неясном и текучем отражении от предметов, самих по себе, вне подсветки, как бы не существующих.
Форма, считали импрессионисты, не должна быть предопределена требованиями сюжета, рисунка, абстрактного представления о цвете. Она как «кусок жизни», а точнее как «кусок цвета», неотделима от художника и его темперамента. Предмет нарисован постольку, поскольку окрашен солнцем, которое, отражаясь в предметах, расщепляется, становится полпхромным и уже в этом виде воздействует на хрусталик, готовый схватывать раздражение, но не осмыслять его. Как «солнцепоклонники» импрессионисты серией этюдов на одну и ту же тему (стог сена, собор, Темза у Моне) подчеркнули движение единого солнечного луча, зажигающего самые разные цветовые пятна. Они начали писать семью-восемью несмешанными красками и, вводя одну краску в другую, не ослабляли цвет, а заставляли его посредством контрастности сочетаний сиять, добивались эффекта подчеркнуто плоскостного впечатления.
Сложные комбинации раздельных мелких мазков импрессионисты предпочли краскам, смешанным на палитре по заранее продуманным рецептам, так как в природе, по их мнению, существуют только чистые краски (за исключением черной). Они всегда по-новому складываются в человеческом восприятии в общее — словно близорукое, «детское» — впечатление. Импрессионисты предложили особый тип сюжета — мимолетного «настроения ». Эту мелодию пейзажа художник как бы без участия мысли, «одной рукой» схватывает и доводит до декоративного решения, поэзии лучеиспускающих точек. Задача зрителя — связать это мерцание красок в подобие единства.
Импрессионизм во французской живописи оказался достаточно нестойким, став лишь одним из факторов творчества крупнейших художников (Мане, Сезанн, Дега). Вместе с тем в качестве экспериментального начала он радикально обновил поэтику изобразительного искусства и перенес акцент с того, о чем пишется, на средства художественной изобразительности как таковые. Однако мгновенно узнаваемая на полотнах Моне импрессионистическая манера, спроецированная на литературное произведение, теряет свою отчетливость. Так, она может быть по-разному соотнесена с романтизмом (открывшим в поэте визионера всеобщей изменчивости) и творчеством У. Вордсворта, с натурализмом (связавшим романтическую субъективность с принципом телесности, «куска жизни») и творчеством братьев Гонкур, Г. де Мопассана, с символизмом (искавшим в заведомой субъективности объективность) и творчеством М. Пруста. В этом широком смысле оправданно даже говорить об импрессионистичное™ всей ненормативной культуры XIX в., которая вынесла в центр творчества субъективность, личную точку зрения.
На эту тему проницательно рассуждает Ш. Бодлер (разделы «Что такое романтизм?», «О колорите», «Об идеале и модели» в эссе «Салон 1846 года», Salon de 1846). Он мечтает о поисках в живописи красоты одновременно конкретной и абстрактной, чего, на взгляд Бодлера, можно добиться, несколько пренебрегая сюжетом и темой. В описании Бодлера Делакруа — зачинатель нового типа субъективности: «Роль воздуха в теории цвета исключительно велика, так что, если бы пейзажист писал листву такой, какой ой ее видит вплотную, тон получился бы фальшивым... намеренное отклонение от истины является постоянной необходимостью даже в том случае, если художник стремится создать иллюзию достоверности... Колористы рисуют, как сама природа».
Бодлер под влиянием Делакруа перенес принципы «колоризма» в лирику, но тем самым связал ее не с живописностью, а со специфической музыкальностью, поэзией эмоционально уплотненных звука и тона. Вдохновляясь не только Делакруа, но и романтической музыкой Р. Вагнера, Бодлер отказывался относиться к слову как статичному образу, под который подбирается навсегда данная, поэтическая форма. Поэтому он ставит стих в зависимость от настроения, заставляет поэзию звучать, отражать в цепочке слов, смысловые связи которых ослаблены, а музыкальные возможности за счет причудливой инженерии стиха усилены, ранее никем не испытанный «стук» сердца, уникальное душевно-поэтическое состояние.
В дальнейшем бодлеровскую установку на заклинание звука и натурализацию стиха усилил П. Верлен, называвший многие свои лирические стихотворения «пейзажами», «акварелями», «пейзажами души». Бодлеровское начало у Верлена стало исходной точкой поэтического настроения — принципом «романтики», «дождя в моем сердце», а парнасское — принципом «классики», «музыки без слов». Сделав конкретное и мимолетное исходным материалом классицизирующего усилия, Верлен перекидывает в поэзии мостик от романтизма к символизму, тогда как его поэтика «вещи» имеет точки соприкосновения с натурализмом в прозе. Символизм Верлена импрессионистичен.
Соответственно во французской, а затем и европейской поэзии «верленовская» тенденция — это линия, связанная с представлением о материальной сущности стиха, о поэзии как выверенном тропе смутного поэтического настроения, переживая которое в слове, автор как бы расходует себя и, искореняя всякое «красноречие », стремится к опредмечиванию музыки, противопоставленной косным шумам мира: «Мы гамлетизируем все, до чего не коснется тогда наша плененная мысль. Это бывает похоже на музыкальную фразу... В сущности, истинный Гамлет может только — музыкален, а все остальное — лишь стук, дребезг и холод...» (И. Анненский). То есть помимо придания стиху текучести и «обволакивания » читателя ритмом как новым — дообразным — носителем смысла, импрессионизм в символизме ищет также поэтической конкретности, способов «превращения музыки в технику» (А. Белый).
Отметим, что французские поэты избегали прямых сравнений литературы с живописью. Лишь В. Гюго однажды назвал С. Малларме «поэтом-импрессионистом». И только Ж. Лафорг в 1880-е годы первым связал принципы импрессионизма не только с живописью, но и с поэзией, музыкой, философией, однако сделал это с позиций символизма. Философский образ импрессионизма дополнил влиятельный венский писатель Г. Бар («Импрессионизм», 1903). Импрессионизм для него — «романтизм нервов», такое мироотношение новейшего искусства, или «модерна», которое нельзя свести к конкретной технике: писатель как физическое лицо растворен в своих впечатлениях, но при этом как источник исходной творческой энергии придает иллюзии реальность, подает о себе сигналы в тексте. Описанная Баром установка на натурализацию сознания свойственна ряду немецких и австрийских авторов 1890— 1900-х годов, стремившихся разработать поэтику фрагмента («секундный стиль» пьес А. Хольца и И. Шлафа; прозаические миниатюры и стихотворения в прозе П. Альтенберга). Вместе с тем Р. М. Рильке, испытав на раннем этапе творчества влияние импрессионистического символизма, счел затем его техницизм излишне рациональным, в результате чего иллюзионизму «отражений» по примеру Ницше («Так говорил Заратустра») противопоставил идею глубины вещи и ее мифологического измерения. Еще более усилил эту неоромантическую тенденцию немецкий экспрессионизм во второй половине 1900-х — начале 1910-х годов. Другим способом преодоления импрессионистического «позитивизма» стал неоклассицизм (Ж. Мореас, Ф. Жамм во Франции, С. Георге в Германии).
В связи с неоклассицистической установкой следует упомянуть и о явлении «католического возрождения», центральной поэтической фигурой которого во Франции стал П. Клодель.
Показательно отношение к импрессионизму русских поэтов. В. Брюсов в 1890-е годы назвал импрессионистическое «творение жизни» в поэзии «реализмом», который освобождает искусство от «замкнутых, очерченных предметов» ради признания, что «весь мир во мне»: «Реализм только часть романтизма. ... Новая школа правильно оценила значение слов для художника. Каждое слово — само по себе и в сочетании — производит определенное впечатление. ... Впечатления слов могут пересилить значение изображаемого. ... В произведениях новой школы важны впечатления не только от отражений, но и от самой действительности, от слов». С позиций позднейшего русского символизма импрессионизм в поэзии (по-разному ассоциировавшийся с творчеством К. Бальмонта и А. Анненского) — игра, культ формы и настроения, иллюзионизм, которые необходимо преодолеть ради религиозного «реалистического символизма»: «Оставаться [наивным] реалистом в искусстве нельзя; все в искусстве более или менее реально; на более или менее не выстроишь принципов школы... Импрессионизм — поверхностный символизм...» (А. Белый).
Возможности импрессионизма в прозе, по примеру поэзии, поставлены в зависимость от темперамента, который пережит как форма восприятия, придающая переживанию пространственное измерение. Уже Г. Флобер сравнивал свой стиль с музыкой, чтобы отделить структуру и «грамматику» текста от его содержания: "все детали, даже на первый взгляд «необработанные», должны вписываться в общий рисунок письма, работать на иллюзионный эффект «одного тона», «колорита». «Госпожа Бовари» для Флобера — роман из одного только стиля, прекрасный текст ни о чем, подчеркивающий трагизм конфликта между «искусством для искусства » и «миром цвета плесени». Натуралисты отказались от флоберовской дуалистичности ради тождества стиля и темперамента.
Братья Гонкуры считали себя «физиологами и поэтами» и, видя в центре современного искусства частности, обостренную авторскую способность наблюдать («жить в истории»), реагировать на «мимолетные особенности», призывали романистов отказаться от литературности (дидактизм, неправдоподобие сюжета, отсутствие строгого отбора) в пользу своего рода дневника — психофизиологии, эпоса частной жизни, увиденной в окно или с бульварной скамейки. Если в фото, по их мнению, творит природа, то в литературе живописует артистичность, неотделимая от «нервов»: «Видеть, чувствовать, выражать — в этом все искусство».
В этом смысле близки к импрессионизму своеобразные поэмы в прозе у Золя (многочисленные описания Парижа в романах «Чрево Парижа», «Творчество» или железной дороги, вокзалов в романе «Человек-зверь»). Феномен «куска жизни» ориентирован на фотографический эффект: жизнь, спроецированная на экран конкретного темперамента, становится словом, литературным «фактом ». Тем не менее Золя, близко друживший с импрессионистами (что положено в основу романа «Творчество»), не употреблял термин «импрессионизм» по отношению к прозе. В 1880-е годы Г. де Мопассан (предисловие к роману «Пьер и Жан»), не желая сравнивать постфлоберовскую прозу с «пошлой фотографией», предпочитает говорить о своем творчестве как воспроизводстве личного видения через мастерскую группировку обыденных мелких фактов.
Для Мопассана иллюзионизм — особая разновидность психологизма, уже не «вериталистского», а поэтического: один и тот же факт может быть увиден с множества точек зрения.
Проза Мопассана, о которой уже подробно говорилось в предыдущей главе, дает возможность для жанровой трактовки импрессионизма в прозе, в иных случаях затрудненной. Именно Мопассан намечает трансформацию рассказа, построенного на эффектно поданном историческом анекдоте, в «психологическую новеллу» (Р. Киплинг, Дж. Конрад, Дж. Джойс, С. Крейн, Ш. Андерсон, А. Шницлер, Т. Манн), которая тяготеет то к несколько бессюжетным лирическим миниатюрам, физиологическому очерку, «запискам на манжетах», то к поэтике «гайдбука», опирающуюся на называние колоритных предметов и имен (прием, опробованный Г. Флобером и Ж. -К. Гюисмансом в романах «Саламбо» и «Наоборот»), то к поэзии подтекста (намек на внутреннее состояние персонажа посредством «случайной» внешней детали, незамысловатого диалога), где обрамление повествования — лишь повод для отсылки к тому, что невербально, принадлежит эротическому томлению и «темным аллеям».
Хотя импрессионизм стал главным образом философией фрагмента и переменчивого лирического настроения, его возможности были восприняты поэтикой не только натуралистического, но и постнатуралистического романа. Так, Г. Джеймс в своих статьях («Искусство прозы», The Art of Fiction, 1884; предисловия к томам своего нью-йоркского собрания сочинений 1907—1909 гг.) обосновал принципы композиции, сконцентрированной не на действии и непосредственном раскрытии его общего смысла, а множестве «точек зрения», — на происходящем в сознании самых разных персонажей, которое только в восприятии читателя складывается в некую символическую фигуру, в моральный и психологический «опыт», художественно рельефный, но далекий от всякой однозначности. Автор, по Джеймсу, лишь режиссер, отвечающий за подсветку и возможность «отражений»: «Я не могу не признаться, что вижу главный интерес любого активного действия только в сознании, способном к обогащению и расширению (в сознании персонажа, подвергшегося какому-либо воздействию или оказавшему таковое)». Психологические установки Джеймса ориентируют импрессионизм на выполнение символистского художественного задания.
В таком виде импрессионизм, развернутый из колоритной «соринки» в полифонию «потока сознания», оказался близким Дж. Джойсу («Улисс») и В. Вулф («К маяку»). По сходному пути преобразования «прозы состояния» и «кусочков жизни» в прозу творческой («мистериальной») активности сознания пошел и М. Пруст. Его философия творческой памяти и название главного труда жизни (многотомный роман «В поисках утраченного времени ») противоречат импрессионистическому интересу к «сейчасности» — слиянию в сознании «внешнего» и «внутреннего», «настоящего » и «прошлого». Словом, импрессионизм не только в поэзии, но и в прозе символизма стал одной из ведущих поэтик. Ее главная задача — быть «материальной», «прозаической», «пространственно- живописной» составной частью подтекста.
В театре импрессионизм сближают с некоторыми пьесами М. Метерлинка, Вилье де Лиль Адана, А. Шницлера, К. Тетмайе- ра, Г. фон Гофмансталя, М. Цветаевой, то есть по преимуществу с теми одноактными поэтическими драмами, которые полны «зыбкости », «недосказанности» и раскрывают свою идею, как считает Р. де Гурмон («Диссоциация идей», 1900), музыкально. Однако импрессионизм связан не столько с содержанием этих в действительности символистских пьес (темы рока, слияния любви и смерти, Ожидания), сколько со способом их постановки, которая потребовала от режиссеров коренной реформы сценического пространства, актерской игры, костюма. ,
Это сознавалось и новаторами (например, француз О. Люнье- По), привнесшими в постановку элементы яркой театральности и синтеза искусств, и теми, кто, как К. С. Станиславский, находил сценические ресурсы для импрессионизма при инсценировке драм натуралистического типа: «Чехов... доказал, что сценическое действие нужно понимать во внутреннем смысле и что на нем одном, очищенном от всего псевдосценического, можно строить... драматические произведения... Местами — он импрессионист, в других местах символист, где нужно — реалист, иногда даже чуть ли не натуралист» («Моя жизнь в искусстве», 1925). Как символизм в целом, так и символистский театр (поздний Х. Ибсен, поздний А. Стриндберг, М. Метерлинк, Э. Дюжарден, П. Клодель, Вилье де Лиль-Адан, Э. Ростан, У. Б. Йейтс, Г. фон Гофмансталь, Г. Д"Ан- нунцио, Л. Пиранделло, С. Выспяньский, отдельно взятые пьесы Г. Гауптмана, Ф. Ведекинда, А. Шницлера) связан с темой творческой активности сознания, не удовлетворенного плоскостным измерением жизни, миром феноменов. Отсюда — измерение миракля, чудес повседневной жизни. Это наличие пространства в пространстве передано через мотивы пробуждения, открытия, снятия покровов, преодоления некоей преграды, которые трактуются как борьба и со «сном» жизни, и с самим собой. Сценическая интерпретация неизвестного направляется не столько исходным текстом пьесы, сколько постановщиком (эпоху символизма в театре определили Люнье-По, М. Рейнхардт, Г. Крейг, А. Аппиа, Н. Еврейнов, В. Мейерхольд) и его установкой на поэтичность спектакля, призванного отказаться от «прозаизма» пьесы, иллюзорного единства сцены, с одной стороны, и служебного характера оформления спектакля — с другой.
Идея М. Метерлинка (трактаты «Сокровище смиренных», 1896; «Мудрость и судьба», 1898) о том, что жизнь — мистерия, в которой человек играет непонятную для его разума, но постепенно открывающуюся его внутреннему чувству роль, давала богатые возможности и для обыгрывания парадоксов (на тему начала-конца, зрячести слепых, здравия безумцев, тождества любви и смерти, конфликта между любовью-привычкой и любовью-призванием, правды души и условности морали), введения элементов «пластического театра» в психодрамы, фантазии, миракли, «сказки», одноактные драматические поэмы или символистской интерпретации Г. Ибсена, и для обнаружения чудесного в повседневном (линия «Синей птицы», 1908). Сталкивая между собой внешнее и внутреннее действие (концепция «двух диалогов» у М. Метерлинка), движение и контрдвижение в виде волн прихотливо отражающегося в себе самом, и тем самым неготового, смысла символистский театр, подобно символизму в целом, намекает на наличие «иного» в «данном», придавая в то же время «иному» и «данному» переменное, а не фиксированное значение.
Наиболее опознаваем импрессионизм в критике. Его возможности намечены «Дневником» Ж. и Э. Гонкуров, фрагментами романа «Наоборот» (1874) Ж. -К. Гюисманса, «Замыслами» (1891) О. Уайл- да. Эта, как говорили современники, «чешуя в отражениях» не столько сконцентрирована на предмете своего артистического интереса, сколько выступает способом автохарактеристики, выражения личного вкуса (или намеренно эстетского, поверхностно- дилетантского, или основанного на мгновенных интуициях). Он представлен в виде различных «силуэтов», «профилей», «ликов», «этюдов», а также «путеводителей» по своего рода личному собранию мировой культуры. Являясь поводом для лирической прозы, эссеизма, такой импрессионизм чаще всего принадлежит символистским и постсимволистским писателям и критикам — А. Франсу («Литературная жизнь», 1888— 1892), Р. де Гурмону («Книга масок », 1896—1898), А. де Ренье («Фигуры и характеры», 1901), М. Прусту («Против Сент-Бёва», опубл. 1954), И. Анненскому («Книги отражений», 1906—1909), Ю. Айхенвальду («Силуэты русских писателей», 1906— 1910), В. Брюсову («Далекие и близкие», 1912), К. Маковскому («Силуэты русских художников», 1922), М. Кузмину («Условности», 1923).
Хотя преодоление импрессионизма в живописи наметилось еще в 1880-е годы, в литературе он в качестве одной из ведущих символистских поэтик сохранял значение вплоть до середины 1920-х годов, сосуществуя со своими модернистскими опровержениями. Некоторые из них (футуризм) отрицали импрессионизм в принципе, а некоторые (немецкий экспрессионизм) были как антитезой импрессионистическому иллюзионизму (противопоставив текучести, размытости, плоскостности мира в ощущениях поэзию «прорыва» и «глубины»), так и развитием — правда, на подчеркнуто германском, иррациональном основании — его принципа ни чем не скованной субъективности. С 1910-х годов импрессионизм начинает восприниматься не только как утонченно психологический стиль декаданса, который оспорен модернизмом и его неоромантической установкой на активность, витализм, миф, но и как постренессансная тенденция в развитии европейской культуры, что получило и сочувственную (рассуждения испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета в работе «Дегуманизация искусства», 1925), и критическую оценку (О. Шпенглер в первом томе «Заката Европы », 1918; свящ. П. Флоренский в разделах «Обратная перспектива », «Итоги» из книги «У водоразделов мысли», 1918—1922).
Эпоха символизма 1870— 1920 гг. завершает актуализацию и кодификацию романтизма XIX в., делая его мифологему кризиса цивилизации центральной проблемой культуры Запада. Если в некоторых странах символизм раскрылся в терминах литературного сознания XIXв. и мироощущения «конца» (различная степень романтичности стилей декаданса: натурализма, импрессионизма, символизма в тесном смысле слова, декадентства, неоклассицизма, «неоромантизма» — так одно время именовался символизм в Германии и скандинавских странах), то в других — в терминах XX века и мироощущения «начала» (различная неоромантичность стилей модернизма и его идей жизнестроительства, примитива, мифа, деконструкции, авангарда и т. д.). Множественность литературных обозначений на рубеже веков мешает увидеть символизм как целостность.
По признанию видного поэта русской эмиграции Г. Адамовича, когда «символизм» ругали, то называли его «декаденством», когда оправдывали, то видели в нем «модернизм», но от этого он не переставал оставаться самим собой.
Постоянно возвращаясь к себе в новом качестве, одновременно утверждая и отрицая, но не изменяя при этом индивидуализму и идее абсолютной свободы творчества, символизм способствовал становлению неевклидова литературного пространства. Не имея литературного центра, вплетаясь в самые разные, в том числе нормативные стили, он упразднил сплошную вертикаль истории литературы и создал новый тип разнесенного во времени, неправильной формы культурного образования. В США, к примеру, невозможно найти символизм ни в литературном пространстве 1880 — 1890-х годов (исключение — Г. Джеймс, живший к этому времени в Европе), ни в том виде, в каком он проявил себя во французской словесности. Но это не означает, что его нет там вовсе. Синтезировав символистские, постсимволистские и контрсимволистские решения, оригинальный американский символизм — начавшийся, как и во Франции, с «поэтического ренессанса» — перестроил общезападную конфигурацию символистской литературы и вполне опознаваем в творчестве Р. Фроста, Т. С. Элиота, Э. Паунда, У. Стивенса, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Ю. О"Нила.
Каждый последующий символизм менял представление о предыдущем и одни тексты выталкивал из сферы своего притяжения, делая их авторов предтечами символизма, символистами вне символизма или даже его антиподами, а другие, ранее несимволистские, притягивал к ней. До символизма Ш. Бодлер — романтик середины столетия (а в чем-то и специфический классицист), после — то «постромантик», то «декадент», то «символист», то «модернист» — переменный масштаб французской (и через нее западной) поэзии от Э. По до У. X. Одена и Г. Бенна. Все это заставило В. Ходасевича заметить в статье «Символизм» (1928) следующее: «В сущности, не установлено даже, что такое символизм... Не намечены его хронологические границы: когда начался? Когда кончился? По-настоящему мы не знаем даже имен. ... Признак классификации еще не найден. ... Это не связь людей одной эпохи. Они — свои, «поневоле братья» — перед лицом своих современников- чужаков. ... Люди символизма «не скрещиваются». ... Я бы решился еще сказать, что есть нечто таинственное в том, что для символиста писатель и человек суть окружность и многоугольник, одновременно и описанные и вписанные друг в друга».
Желание «раздуть» в себе «мировой пожар творчества» и через постоянное преодоление себя реализовать проект абсолютной свободы привело многих символистов в 1910-е годы к идее участия в политической деятельности и отрицания культуры «отцов» как таковой. При осуществлении намеченного им прорыва в будущее авангардизм, вышедший из лона символизма, оказался причастным к целой серии революций, переворотов, гражданских войн.
Однако на рубеже 1920— 1930-х годов вместо дальнейшего расширения горизонтов творчества авангардистский радикализм исчерпал себя и по-символистски вынужден был констатировать «молчание ». Среди множества причин «европейской ночи» индивидуализма назывались резкая политизация общества, трагическая исчерпанность возможностей субъективности и «новизны» в творчестве, которые при отвержении образцовости и условности классицизма еще сто лет назад казались необозримыми, а также вытеснение «высокой литературы» (и «автора-пророка») из центра культурной жизни. Его место занимает массовое искусство и прежде всего кинематограф, предполагавший не только сравнительно невысокий образовательный уровень зрителя и манипулирование им через разного рода клише, но и возможность технической замены «художника» на «камеру». Это поражение индивидуализма было подчеркнуто враждебностью к нему тоталитарных режимов (в СССР, Германии), которые в государственном масштабе восстановили своего рода нормативное искусство, направленное против «декаденства» («дегенератства») элитарного творчества.
Подведем итог. Символизм прошел сложный путь развития. Условно можно говорить о четырех-пяти его основных типологических разновидностях.
Первая — романтическо-платоновская, германская, восходящая к Гёте и его знаменитым словам из второй части «Фауста»: «Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss» («Все преходящее — только подобие»), а также к Новалису, Блейку, Вордсворту. Речь идет о религии слова и постижении поэтом вербальной сущности любых проявлений бытия. В отличие от средневекового миросозерцания носителем абсолютного смысла объявляется здесь не Бог, а «божественное» в самом поэте — возможности его лирики как связующей мир воедино витальной силы. Познание для такого поэта самопознание, а сам он и его язык — поле «вселенской аналогии». Сквозь видимое, феноменальное — к незримому, ноуменальному, — этот вектор творчества связан в той или иной степени с поэзией Ш. Бодлера, А. Блока, У. Б. Йейтса.
Вторая версия символа подчеркнуто неплатоновская. Если платоновский символ — миропонимание, тайное знание, слияние субъекта и объекта в становящемся объекте, синтетическое искусство, — словом, неклассическое (то есть данное сквозь призму субъективности) двоемирие, то неплатоновский символ не связывает себя с поиском предмирных знаков, стихий/ными восклицаниями языка («лепетом»), лирической исповедью на тему борьбы между «художником» и «человеком». Он программно посюсторонен. У неплатоновского символа две основные разновидности.
Одна из них — феноменальная, подчеркнуто рациональная, романская. Она тяготеет к идее целостности мира в тропе (поэтической метафоре), который трагически противопоставляет себя бесформенности мира. В словесности этот символизм связан с представлением о художественном языке «самом по себе» и такими формулами, как «чистая поэзия», «импрессионизм», «имперсональность письма». Во Франции влиятельным образом искусства, которое связывает себя не столько с личностью художника, сколько с языком как собственно художественным заданием, стала, в понимании Бодлера, поэзия Э. По. Однако Бодлер, скорее, санкционировал и обосновал новый стиль в теории, нежели реализовал его. Кредо такого стиля — новизна, максимально точная реализация именно в слове, сшибке и кружевах слов, капризе поэтического синтаксиса, прежде никем не испытанного, и, следовательно, где-то искусственно, экспериментально вызванного душевного состояния. Центральные фигуры такого символизма — С. Малларме, П. Валери.
Другая разновидность феноменального символа — эстетская. Символ здесь — квинтэссенция чувственности того поэта, который, как Нарцисс, везде видит свои отражения. Эстет — намеренный дилетант, гений поверхностности, коллекционер сюжетов и имен для своего воображаемого музея. Эстетизм замороживает, подобно Дориану Грею, убивает то, что любит, чтобы естественное, «жизнь», перевести в разряд противоестественного, «искусства ». Для эстетизма возможны заимствование и перелицовка (пародирование) чужого литературного материала, который получает новую жизнь в виде отточенного и сложившегося в самостоятельную фигуру вкуса, как возможны и фантастические элементы (готика, макабр), нацеленные на «злое» разоблачение буржуазных литературных стереотипов. Эта программа предполагает верность эстетов не столько музыкальности, сколько живописности — собиранию и стилизации исторических сюжетов на мотив интересующей их темы безгрешности, внеморальности творчества (Александрия и Рим времен заката эллинизма, Саломея, св. Себастьян, Цезарь Борджиа). Наиболее последовательным воплощением эстетизма рубежа веков стали О. Уайлд и Г. Д"Аннунцио, каждый из которых отстаивал свой идеал «искусства жизни» (денди-андрогин, мужественный конкистадор). Близки к эстетизму и возможности неоклассицизма (кружок С. Георге).
Другой важной разновидностью неплатоновского символа является неоромантический символ. Неоромантизм не удовлетворен ни лесом символов, вселенскими аналогиями, ни стихийной автономностью языка (алиби лингвистической структурности мира), ни импрессионистической стилизацией эстетизма или неоклассической влюбленностью в образец. Он не желает знать никаких посредников между поэтом и словом, между сознанием и подсознанием, он грезит о «новой вещности» — прорыве к реальности как бы на уровне магнетических и электрических контактов. О сломе привычного звукового и смыслового горизонта вещи прокламируется в знаменитых словах Заратустры: «[ты] один со всеми вещами — говоришь прямо!». Говорить прямо — это синтез наименования и бытия в спонтанном акте творчества, творение живых форм, дионисического мифа. Речь идет о незапятнанном (как бы архаическом) познании, опрощении, высвобождении посюсторонней энергии ядра слова от всяческих наслоений и искажений.
Наверное, такой вид символа оправданно назвать разъединяющим. Он избегает риска обвинить своего носителя в солипсизме и душевных эманациях, в подчинении предметов манерной позе.
И хотя Ницше, описывая свой неоромантический идеал, пользуется выражением гётевского рода («вечное возвращение», die ewige Wiederkehr), оно не сбивает с толку. Ницше отказывается от бесконечных метаморфоз истории ради переживания абсолютной конечности времени.
Возвращение у Ницше — это поворот круга ценностей, то есть вхождение во время как в неотменимость, бытие к смерти, как в зону видимости максимально резких, ослепляющих сознание пятен, как огненную сакральность заведомо профанного. Неоромантик не узник платоновской пещеры, а новый Икар, зажигающий солнце за солнцем: все — не подобие, все преходящее непреходяще. Поэзия платит за подобное «досократическое» опьянение жизнью растерзанием Диониса-Орфея. Жертвой высшему назначению поэзии стал в восприятии Ницше Гёльдерлин. Продолжая эту героическую линию безжалостного к себе идеализма, Ницше полагает, что к нему как к поэту обращается бездонность имен, что сквозь него, и не смешиваясь с ним, говорит «бездна»: боль вещей. От Ницше это желание во что бы то ни стало материализовать «голоса безмолвия» передалось позднему Р. М. Рильке. Во Франции этот путь «ясновидения» опробовал еще в 1870-е годы А. Рембо. Не случайно, что оба этих поэта наряду с Ницше считались в эпоху авангарда 1910-х годов первопроходцами экспрессионизма, футуризма и сюрреализма.
Предложенной типологией литературный символизм не исчерпывается. Некоторые из сымволизмов сугубо индивидуальны, некоторые (Ницше, Рильке, Блок, Джойс) — вбирают в себя большинство других символизмов. Символизм — центральное артистическое событие культуры рубежа XIX—XX вв.
Литература
Вальцелъ О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии: 1890- 1920: Пер. с нем. - Пг., 1922.
Обломиевский Д. Французский символизм. — М., 1973.
Корецкая И. В. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма //Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX в. —М., 1975.
Андреев Л. Г. Импрессионизм. — М., 1980.
Свасъян К. А. Проблема символа в современной философии. — Ереван,1980.
Великовский СИ. В скрещенье лучей. — М., 1987.
Аникст А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. —М, 1988.
Косиков Г. К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора: Пер. с фр. — М., 1993.
Ревалд Дж. История импрессионизма: Пер. с фр. — М., 1994.
Тодоров Ц. Теории символа: Пер. с фр. — М.} 1998.
Толмачёв В. М. Творимая легенда / / Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / Ж. Кассу и др. — М., 1999.
Толмачёв В. М. К вопросу о типологии символизма / / Лосевские чтения: Образ мира — структура и целое. — М., 1999.
Минц З. Г. Поэтика символизма. — СПб., 2000.
Французский символизм: Драматургия и театр: Пер. с фр. / Сост. В. Максимова. — СПб., 2000.
Michaud G. Message poetique du symbolisme. — P., 1947.
Modernism / Ed. by M. Bradbury, J. McFarlane. — Harmondsworth (Mx.), 1976.
Die Wiener Moderne: Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910 / Hrg. von G. Wunberg. — Stuttgart, 1981.
Delevoy R. L. Symbolists and Symbolism. — L., 1982.
Symbolist Art Theories / Ed. by H. Dorra. — Berkeley (Cal.), 1994.
Marchal B. Lire le symbolisme. — P., 1993.
Smith R. C. Mallarme"s Children: Symbolism and the Renewal of Experience. — Berkeley, 1999.
MatzJ. Literary Impressionism and Modernist Aesthetics. — Cambridge, 2001.
Примечания
1 См. об этом в проницательных эссе Н. Гумилева: Гумилев Н. О Верхарне; О французской поэзии XIX века / / Гумилев Н. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1991. — Т. 4.
Романтизм был серьезным литературным движением и захватил все страны Европы, вплоть до Дании, Испании, Польши. Несмотря на разнообразность течений, романтизм был целой, единой культурой. Он охватил все области культурной жизни. Мы имеем романтические художественные произведения, романтическую философию и ряд отраслей научного знания - как ни странно это звучит. Романтизм распространился на все искусства, музыку, живопись, актерскую игру. Существовал романтизм даже в медицине. В начале XIX века в моду вошли способы лечить внушением, гипнозом. Эти идеи и развились в романтических кругах. Если вы начитаны в Гофмане, то вы знаете, что у него много врачей-гипнотизеров. Упоминание о гипнозе есть и в «Пиковой даме».
Во всех странах Европы - свой романтизм. Но в конце концов все они, когда на них смотришь издали, сливаются в нечто единое. Романтизм развивался неравномерно. Ранний, наиболее характерный романтизм - немецкий. Он сформировался накануне нового века (1795-1799) и существовал до 20-х годов XIX века. В 1830-х годах он почти сошел на нет. К началу XIX века определяется романтизм и в Англии. Настоящий его подъем пришел позднее.
НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ.
В столь же значительной мере, как и на литературных движениях, влияние Французской революции сказалось и на развитии философской мысли Германии того времени. Примечательно, что почти все известные философские системы Германии конца XVIII – начала XIX в. своим важнейшим компонентом имели вопросы эстетики. И Кант, и Шеллинг, и Гегель в своем истолковании системы мироздания важное место отводили искусству.
Немецкий романтизм развивался школами.
Иенские романтики назывались так по имени города Иена. Культурными центрами были университеты. При общей отсталости Германии вся страна в целом не могла бы поддержать литературное движение. В Иене читали свои курсы Шиллер, Фихте. Но там же были и враждебные им течения: филолог, поэт Август Шлегель и философ Шеллинг, имевшие огромное влияние на умы романтиков. Для немецкого романтизма на первых порах было характерно привлечение философов, ученых.
Романтизм - это целая культура. Порой приподнятость, взвинченность называется романтизмом, невзирая на источники. Романтизм надо определять исторически. Это не какое-то случайное настроение поэта. Это движение, охватившее всю Европу с конца XVIII века и державшееся до середины XIX, а иногда и позже.
Ключи к романтизму лежат в философии раннего Шеллинга. Он в Иене начал развивать определенные взгляды на природу. И вот каковы были его главные идеи.
Он рассматривал мир природы как некое непрерывное творчество. Мир для него был творчеством, а не собранием отдельных вещей - законченных, отложившихся друг от друга. Шеллинг учил, что эти законченные вещи - лишь временный узел в непрерывном творчестве, которое охватывает мировую жизнь. Мир, по Шеллингу, вечно созидает самого себя. Творимая жизнь, бесконечная жизнь. Жизнь есть творчество, которое никогда ни на чем не успокаивается, не может иметь ни начала, ни конца. Эта творческая жизнь и вызывает желание романтиков передать ее.
Это миропонимание сверстников великой революции. Нет догмы, нет ничего овеществленного навсегда. Мир находится в вечном процессе. Все в мире постоянно созидается заново. Революция показала, что ничего нет установленного. Вчера - авторитеты, сегодня они уничтожены.
Романтизм был обобщенным отражением революции. Ни в Германии, ни в других странах романтики не изображали революцию.
Итак, основная внутренняя тема романтизма - творимая жизнь, жизнь как непрерывное творческое движение. Характерным образом романтики, которые были внимательны ко всем искусствам, превыше всего ставили музыку. Это эпоха чрезвычайно напряженного культа музыки. В Германии XVII-XVIII веков были великие композиторы: Бах, Гендель и, наконец,- Моцарт. Романтиками были Вебер, автор «Волшебного стрелка», Шуберт, Шуман.
Любимые темы и мотивы романтиков: ночь, сквозь которую бежит почтовая карета, и почтальон, который всю ночь гонит лошадей; дорога, которая не имеет конца; деревья и вечер с голубой далью, к которой вы едете и не можете приблизиться.
На кого ориентировались романтики в искусстве прошлого? Они очень презрительно относились к просветителям, неприязненно - к Вольтеру, Лессингу, к этим писателям рационального, рассудочного толка.
Романтики высоко ценили Гете. Они и заложили основы культа Гете, хотя он им особой взаимностью не отвечал. Август Шлегель писал, что Гете - это Поэзия на земле, заместитель Господа Бога на земле.
А из прошлого они создали (а за ними и англичане) культ Шекспира. Именно романтики стали твердить своим современникам, что Шекспир - поэт поэтов. Лучшим романом на свете романтики считали «Дон Кихота» Сервантеса. У Сервантеса они ценили то, что они называли музыкальностью.
К роману XVIII века (до Гете) романтики относились очень неприязненно. Для них все литературные жанры должны были быть поэтичны. Поэтичность, музыкальность - это почти синонимы.
У романтиков был широко разработанный юмористический жанр, был особый романтический юмор - как у Шекспира в «Двенадцатой ночи» или в «Много шума из ничего». Лишенный всяческой назидательности смех, как таковой, который существует только для того, чтобы посмеяться, а не осмеять. Смех, а не осмеяние, комедия «чистой радости». Романтический юмор - это игра, дерзкая забава, шутка; романтический юмор может проявлять себя как шутка очень большого масштаба, грандиозная шутка.
Шеллинг разрабатывал новый отдел философии (по крайней мере, для немцев) - натурфилософию. Он ринулся изучать химию, физику и другие науки, которые были разработаны в XVIII веке (Лавуазье, Вольта, Гальвани и другими). Новое естествознание, очень двинувшиеся биологические науки - Шеллинг стал изучать их, как, впрочем, и все романтики.
Но на деле этот интерес к природе был углублением интереса к социальному миру. Главная идея Шеллинга - идея мира как творчества. Мир бесконечен, как и всякий творческий процесс. А откуда Шеллинг взял эту идею несмолкаемого творчества? Из явлений природы и социального мира.
Классицисты считали, что природа раз и навсегда преодолена культурой, так сказать, обжита культурой. А романтики - у них нерасторжимый синтез природы и культуры. Природа - это поставщик сырого материала для культуры. И их отношения, с точки зрения романтиков, не могут не меняться. Это не постоянная величина. Романтики воспринимали мир динамично, поэтому для них важна тема природы. Природа ― это первоисточник науки и культуры, которая себя еще не высказала и далеко не полностью выскажет. На старости лет Шеллинг, вспоминая иенский круг, замечательно сказал: «Да, мы тогда были все юными, нас нисколько не занимало действительное, нас увлекало возможное».
Классики говорят о человеке как он есть; они как бы пишут ему паспорт. Для романтиков важно не что он есть, а чем бы мог быть. С этих позиций и изображается у романтиков человек.
Вот почему такое значение обретает для них лирика. Лирический мир - это то, что еще не реализовано, не стало областью факта. Но может стать фактом завтра. Драма и роман требовали чего-то оформленного. А вот то, чего нет, но уже заложено в настоящем, - это лирика, это музыка.
В начале XIX века появилась так называемая гейдельбергская школа - вокруг университета. Гриммы в молодости тоже входили в содружество романтиков гейдельбергской школы - оба Гримма: Якоб - старший и Вильгельм - младший. Якоб жил очень долго, из него выработался первоклассный ученый, громадное значение имевший для филологической науки, создавший филологическую науку в ее современном виде. Он занимался всеми ее отраслями. Во-первых, историей языка. Он создал первую научную историю немецкого языка. Он же написал «Немецкую грамматику». Затем он занимался фольклором, мифом - у него есть очень важный труд по немецкой мифологии. Затем правом, он был историком древнего права. Это одно из его интереснейших сочинений - по истории права. Он сделал необычайно много, его вклад в науку кажется совершенно фантастическим. Один Гримм сделал столько, сколько не сумели бы сделать пять-шесть ученых.
Вильгельм Гримм был человек скорее с художническими тенденциями, чем с научными. Сказки - это работа обоих. Сказки братьев Гримм важны были для собираний, публикаций сказок во всех странах Европы. Они, по существу, послужили образцом для собирания сказок во всех странах. Это подлинные сказки, сделанные по подлинным записям. Гриммы усердно собирали, записывали их. Но это не есть сказки в сыром виде. Они обработаны. И все чудо в том, как они обработаны. Это сделано необычайно деликатно, очень близко к духу, стилю, складу подлинника. В обработках нет никакой отсебятины. Это соединение науки и художественности. Гриммы проявляют себя и как художники и как ученые одновременно. Это первоклассная немецкая проза, а в то же время это подлинные сказки. Выпущены были сказки Гриммов в 1812-1815 годах.
Английский романтизм
Романтизм в Англии - это очень своеобразный романтизм. Он имел много точек соприкосновения с немцами. Все эти соприкосновения были нечаянными, потому что романтизм в Англии, как правило, развивался совершенно независимо от немецкого. Английский романтизм имел очень большую, длинную историю. Он начался раньше, чем у немцев, и кончился, пожалуй, тоже раньше. Он прошел через стадию так называемого преромантизма.
Преромантизм - это элементы романтизма, существующие вначале отдельно. Это элементы, которые еще не сложились в какую-то единую систему вкусов, идей, понятий, эстетических и философских норм. Во второй половине XVIII века романтизм как система не существует. Он существует как фрагменты этой будущей системы. Англия обернулась на свое литературное прошлое, к XVIII веку основательно англичанами забытое.
К середине XVIII века Шекспир был почти забытым автором. Его почти никто не знал. Его не было на сцене, его не издавали. И вот как раз где-то в середине века начинается движение к Шекспиру. Его издают, переиздают, пишут о нем трактаты. Это было значительное явление, потому что Шекспир - это, конечно, один из праотцев романтизма. И никакого романтизма без Шекспира никогда бы не состоялось.
Другое (и Англии в этом отношении принадлежит мировая инициатива) - серьезный и систематический интерес к фольклору. Возникло фольклорное движение. Тут очень важна роль епископа Перси, который издал сборник старошотландских баллад, произведших на всю Европу колоссальное впечатление.
В преромантическую культуру входило так называемое готическое движение. Понемногу стали интересоваться более ранней эпохой, к которой всегда относились как к чему-то чисто негативному. Стали забираться в Средневековье. Возникла мода на готическую архитектуру, на готику. Наконец, возникло явление преромантизма, очень специфическое: появление в Англии так называемого «страшного» романа. Его называют еще черным романом, готическим романом.
У англичан тоже как у немцев были романтические школы. Самая значительная - так называемая озерная школа. В литературе в прямом смысле говорить о школе нельзя, школами называют писателей, более или менее близких друг другу, держащихся одного и того же кредо, одного символа веры.
ОЗЕРНАЯ ШКОЛА.
У англичан такая школа - лейкисты (от lake - озеро). Она так называется по месту пребывания главы школы - Вордсворта. Он жил в английской провинции, в так называемой Стране озер, и оттуда как бы правил своей школой. А школа тяготела к Вордсворту, к его поэтической догме. Самый замечательный из лейкистов - Кольридж. Собственно говоря, это и есть самые главные силы школы - Вордсворт и Кольридж, хотя поэтов, принадлежащих к озерной школе было гораздо больше. У них была общая программа.
Одно из философско-социальных воззрений, которое было в ходу в этом кружке – пантисократия. Это соединение двух греческих слов. Пант - пантеизм - философская концепция, по которой весь мир напоен божественной жизнью, бог находится внутри мира, все божественно, все связано, все священно. Нетрудно догадаться, что к этому мировоззрению потянулись поэты, художники. Гете был законченным пантеистом. Исократия - это слово, которое изобрели друзья Кольриджа. Исос - равный, кратос - власть. По учению исократии - все существа в мире равны. Это равноправие всех существ в мире.
У Кольриджа были такие демонстративные стихи, в которых демонстрировался этот идеал пантисократии. У него было, например, стихотворение об осле, привязанном к дереву. Кольридж описывает, как он съел всю траву - и привязь мешает. Нарочно взят такой смешной герой - осел, герой басен.
Стихотворение Кольриджа «О вороне» - ворон с воронятами устроил гнездо на дубе. Люди его разорили. Овдовевший ворон улетает. Потом люди построили корабли из этого дуба. Ворон кружится над кораблем, каркает - и корабль гибнет. В этом пантисократия. Все существа хороши, равны человеку: и осел, и воронята - достойные существа. Это, собственно говоря, чувство единства жизни. Все живет сообща - одно с другим.
Тема зла у английских романтиков, так же, как и у нимецких, занимает важное место. Вот эта всеобещающая жизнь, с ее отрадным простором, с ее бесконечными надеждами, она совмещается с царством зла. В эту всеобещающую жизнь входит зло и отравляет ее. О поэмах Кольриджа можно сказать, что это поэмы о прекрасном, но отравленном мире. Страшный мир Гофмана - это всегда бывший прекрасный мир. Под страшным живет прекрасное. Страшный мир - он не какой-нибудь плоско-страшный. Это не какой-нибудь современный мир ужасов, где есть ужасы и больше ничего нет. Да, это ужасы, но под ними живет прекрасное, которое всеми этими ужасами покорено, подчинено.
Еще одно новаторство романтиков – атмосфера произведения. Атмосфера - явление совершенно неведомое классикам. А вот Кольридж создает эту самую атмосферу, атмосферическое искусство. У него вырабатывается язык атмосферы. Это очень новое и очень важное явление. Без него немыслимо искусство XIX и XX веков.
Лейкисты были поклонниками инфантильного, нетронутого детского сознания. Детство, провинция, природа - это обычные темы и у Вордсворта, и у других «озерных» поэтов. Яркий пример – баллада Вордсворта «Нас семеро». Поэт спрашивает у девчонки, сколько у них в семье детей. А она все твердит: семеро, семеро. А потом оказывается, что семеро-то семеро, но с матерью живет только она одна. Двое ушли жить в деревню, двое служат во флоте, а двое умерли. Он говорит: «Как же: выходит, пятеро вас». А она - семеро. Какой же смысл этого диалога? Тут умиляющая деревенская наивность, которая не делает различий между жизнью и смертью. Мои брат и сестра никуда не ушли, они там, за изгородью. Раз они лежат рядом, значит, семья остается нетронутой. Тут умиление детской наивностью, для которой нет смерти и на кладбище жизнь продолжается.
Гофман. Эрнст Теодор Амадей Гофман. (1776-1822 г).
Гофман относится к поздним немецким романтикам. Имя «Амадей» Гофман сам себе дал в честь Моцарта. Гофман был обожателем Моцарта. Гофман - один из самых замечательных писателей в среде немецких романтиков.
Биография Гофмана - типовая биография человека времен наполеоновских завоеваний. Долгие годы Гофману пришлось вести бродячую жизнь. Его перебрасывало с места на место, приходилось очень часто менять профессии. По образованию он юрист и начал свою жизнь довольно благополучно. Он занимал должность, соответствующую его образованию, в Познани и Варшаве. А потом, когда Наполеон погнал оттуда немцев, Гофману пришлось удалиться. И Гофман провел несколько лет в небогатом, но культурном городке Бамберге, который дал материал для очень многих его произведений, и только с 1814 года Гофман прочно поселился в Берлине и опять поступил на государственную службу.
Гофман был человек очень многих дарований. Он был очень одаренный музыкант, играл на многих инструментах. Долгое время Гофман в печати выступал только как первоклассный музыкальный критик, писал замечательные статьи о музыке. Он написал рецензию на только что вышедшую тогда и бывшую новинкой Пятую симфонию Бетховена. Написал замечательную статью, которую прочел сам маэстро,- Бетховену она очень понравилась
Очередь художественной литературы наступила позднее. Гофман писал чрезвычайно своеобразно. Это поздний романтик, и у него романтизм, как у всех поздних романтиков, весьма осложненный.
«Золотой горшок». Там уже весь Гофман, со всеми своими особенностями, или, если хотите, со всеми своими причудами.
Действие происходит в современном Дрездене. Дрезден. Тот самый Дрезден, который все хорошо знали, один из самых богатых городов Германии. Когда начинается действие повести? В день Вознесения. Начинается действие у Черных ворот. Черные ворота в Дрездене - всем известное место. Потом действие переходит в увеселительные сады под Дрезденом, тоже всем известное место. Все датировано, все указано точно.
Герой повести - студент Ансельм. Красивый юноша, с поэтическими наклонностями, вечно задумчивый. Что-то ему сочиняется. Поэтому он удивительно рассеянный и влипает по своей рассеянности во всякие неприятные истории. Вот как начинается эта повесть. Ансельм любил день Вознесения. Он вырядился: надел свой щучье-серый фрак - и пустился в путешествие. У него были кое-какие деньги в кармане. И у него был обширный и дерзкий замысел: он решил пройти в один из садов Дрездена и там, под открытым небом, выпить пива - наивысшее для него удовольствие. Двойное пиво. Было задумано двойное пиво. Вот он продвигается к этому двойному пиву, и у Черных ворот его настигает приключение. Представляя, как он будет веселиться в саду, он задумался и неожиданно наткнулся на корзинку с яблоками, корзинка опрокинулась, яблоки полетели в грязь.
И он услышал страшные ругательства, бешеные проклятия старухи-торговки. Чтобы как-нибудь установить мир с этой необычной женщиной, он вынул все свои монетки и предложил их в виде компенсации. Видите, праздник Вознесения начался для Ансельма очень плачевно: и обругали его, и деньги пришлось отдать.
Ближайшие друзья Ансельма - конректор Паульман (конректор - это начальник в учебном заведении), дочка Паульмана - Вероника (юная девица, явно неравнодушная к Ансельму и задумавшая выйти за него замуж) и регистратор Геербранд.
Гофман очень любит преподносить всех своих персонажей с их чинами. Регистратор - это не должность, это чин. И конректор - это не только должность, но и чин.
Гофман - это неистощимый сатирик немецкого бюрократизма. Немцы у него всегда представлены в бюрократических ореолах. Без обозначения чина они не появляются. Нам это все очень близко знакомо, потому что у нас, в России, вся табель о рангах, все чины были более или менее переведены с немецкого. Действительный тайный советник, коллежский асессор и т. д. У Гофмана очень иронично разрисована, расписана эта бюрократическая Германия. Нет просто людей. Есть чин. Обязательно. Все персонажи пригвождены, приколоты к какому-либо чину - как бабочки в коллекции. У каждого есть булавка, на которую он насажен. А булавка - это его чин.
Ансельм - он еще чина не имеет. Он еще учится. Но его друзья на него смотрят как на юношу, подающего надежды: вот он кончит учение и вылетит в какие-нибудь советники. Тем более что у него очень хороший почерк. Чиновник с хорошей рукой - это карьера. На хорошем почерке люди довольно далеко уезжали. И Вероника прислушивается. Ансельм хороший жених. Далеко пойдет.
В этот день Вознесения решилась дальнейшая судьба Ансельма. Для него нашли очень хорошую работу. А именно: в Дрездене живет один человек - чудаковатый архивариус Линдхорст. Это богатый господин, у него прекрасный особняк и замечательное собрание восточных рукописей. И ему нужен хороший переписчик, копиист, который бы ему все переписывал. Ансельм для этого годится, и с завтрашнего Дня он должен начать свое знакомство с Линдхорстом. Он очень долго готовился к этому визиту, очень хотел показать себя: чистил свой фрак, косу свою напудрил. И потом, аккуратный, посмотрел на часы и пошел к Линдхорсту.
Ансельм отличался тем, что не умел никогда прийти вовремя. Он был растяпой. Но на этот раз все шло хорошо. На башенных часах стрелка показывала нужное время. У двери Линдхорста он взялся за дверной молоток на длинном шнуре - и тут случилось нечто необычное. Этот шнур - он зашипел по-змеиному. Шнур превратился в змею. А из лица бронзовой фигуры на дверях посыпались искры, появились злобные глаза, морщины. И Ансельм услышал проклятия. Те самые проклятия торговки. Змея обвилась вокруг него. Он упал без сознания.
К Линдхорсту он не попал. Его потом нашли без сознания на крыльце. Вот начало повести.
Уже по этому куску очевидна манера Гофмана. Гофман сочетает реальнейшую обыденность, обыденнейших людей - с фантастикой. Фантастический мир оплетает обыденный мир. Фантастика обвивается вокруг обыкновеннейших, реальнейших вещей.
Гофман - изобразитель вот такой повседневной, мещанско-бюрократической Германии. Германии, которая ведет мещанскую жизнь, погружена в бюрократические идеалы, в бюрократические интересы. Вот это сочетание обывательщины и фантастичности - оно дает особый колорит быта, трактуемого Гофманом. Совершенно так же, как у нашего Гоголя
Гофман создает особый вид фантастики. Фантастика самой обыденной жизни. Фантастика, извлеченная из недр обыденной жизни; самая обыкновенная, даже пошлая жизнь - она поставляла для Гофмана фантастику. Гофман умел увидеть фантастичность, иррациональность самой обыкновенной жизни. Как все романтики, он постоянно так или иначе воюет с филистерами, с филистерскими представлениями. Филистер - это одно из самых бранных слов у романтиков. Не дай бог, с точки зрения романтика, быть филистером. Филистер - это обыватель, мещанин. Человек, который живет мещанской жизнью, по-мещански мыслит и чувствует. Весь ушел в свой халат. В трубку, которую он курит. Весь занят тем кофе, который он пьет. Занят своими домашними делами, и только. И делами службы, если служит; служебным преуспеянием. Филистеры свысока говорили о всякой романтике. Что романтика - это бред, безумие, в ней нет смысла. А вот вам месть романтика филистерам: романтик показывает, что эта обыкновенная, трезвая жизнь (филистер считал, что его жизнь - это норма, его быт - разумная реальность), жизнь филистеров, - если чуть-чуть ее копнуть, то она-то и оказывается сплошным безумием. И ничего разумного в ней нет. Она являет собой смешную, некрасивую фантастику. Вот это чрезвычайно важная и характерная тема для Гофмана: фантастична сама обыденная жизнь.
Какие-то погребенные, погибшие возможности у Гофмана изображены не только в людях. Они даны во всем. Они даны в природе вещей. Они даны в обстоятельствах, в вещах. У Гофмана происходят странные превращения, странные метаморфозы. Шнур, на котором висит колотушка у архивариуса Линдхорста, превращается в страшную змею. Из кляксы на манускрипте вдруг появляются молнии. Из чернильницы вырываются страшные черные коты с огромными глазами. Архивариус Линдхорст носит очень яркий восточный халат, с которого вдруг снимает загорающиеся вышитые цветы, как если бы они были живые, и швыряется ими. Гофман изобразил в этой повести мир возможностей, которые превратились в обывательщину, в канцелярщину. Когда живая человеческая душа превращается в советника коммерции, и только, - это великое искажение природы для Гофмана. Это фантастика. Это до фантастичности уродливо.
Поэты-символисты отрицали морализаторство в искусстве, эпатировали очевидным неприличием. А. Рембо пишет сонет «Искательницы вшей », ранее Шарль Бодлер опубликовал стихотворение «Падаль».
В реальной жизни декаденты вели богемный образ жизни, демонстрировали имморализм, щеголяли распущенностью, полагая, что, создав шедевр в искусстве, они оправдают все свои пороки.
К декадентам в английской критике относили творчество Оскара Уайльда (1854 - 1900 )
Уайльд - мастер парадоксов. Парадокс - мнение, которое противоречит общепринятому. Парадокс не утверждает новые истины, но заставляет сомневаться в тривиальных оценках.
Оскар Уайльд родился в Дублине. Говорят, что самые остроумные английские писатели - ирландцы. Свифт, Шоу и Уайльд тому подтверждение. Закончив Оксфордский университет, он стал профессиональным литератором. Помимо стихов, сказок и пьес Уайльд выступал с чтением лекций об убранстве жилищ и моде, редактировал журнал «Женский мир». В 1884 году женился, у него была преданная жена и двое сыновей. Уайльд исповедовал принципы дендизма: удивлять не удивляясь, презирать толпу, эпатировать публику экстравагантным костюмом, поклоняться красоте, не говорить ничего банального. Оскар Уайльд - блистательный мастер парадоксов. Его суждения всегда остроумны. Вот некоторые из его парадоксов:
Только поверхностным людям суждено понять самих себя;
Цель жизни - самовыражение;
Полюбить самого себя - завести роман на всю жизнь;
Единственное, о чем я не жалею, это о своих ошибках;
Демократия означает подавление народа народом во имя народа;
На экзамене глупцы задают вопросы, на которые не могут ответить мудрецы…
Парадоксален сюжет романа «Портрет Дориана Грея » (1891). Юный красавец сетует на то, что он постареет и подурнеет, а на портрете он останется молодым. Портрет и модель поменялись местами. Дориан обретает вечную молодость, а на портрете отпечатался весь его страшный жизненный опыт. Дориан становится неуязвимым и потому безнаказанным. Он убивает художника, написавшего портрет, дабы тот не узнал роковой тайны, по его вине гибнет актриса, которой он был увлечен. Он несет горе окружающим, а его жизнь становится бессмысленной. Когда спустя много лет он увидел свой портрет, на него глядел мерзкий злой старик. Бросившись на портрет с ножом, Дориан убил себя.
Оскар Уайльд пытался создать эстетскую утопию, царство красоты. Но в финале роман вопреки теории показал, что искусство без морали невозможно. Самого Уайльда строгие блюстители морали упрятали в тюрьму, где он написал свою исповедь «De profundis» («Из глубины взываю к Тебе, Господи» - начало Псалма 129). Он во многом раскаивался, сожалел о своих заблуждениях, утверждал, что культ красоты невозможен в торгашеском обществе.
XX век: реализм, модернизм, постмодернизм
Хотя в конце девятнадцатого столетия начались активные атаки на реализм, в искусстве и литературе он остается ведущим направлением. Это объясняется самой природой изобразительного искусства, поэзии, прозы и драматургии. Каких бы воззрений не придерживался автор, он в большей или меньшей степени ориентирован на реальность. Даже в том случае, когда в произведении отстаивается сугубо личностное восприятие, а творение автора носит откровенно субъективный характер, не следует забывать, что писатель или живописец является сам частицей реального мира.
Генрих Манн (1871 - 1950) родился в старинном ганзейском городе Любеке. Отец, как и дед, избирался на должность сенатора. Семейство Маннов занималось оптовой торговлей зерном.
Его литературным дебютом стал роман «Земля обетованная » (1900). нарисовал карикатуры на берлинских нуворишей, которые сколачивали грандиозные капиталы финансовыми аферами.
Следующий сатирический роман назван Генрихом Манном «Учитель Унрат » (1905). Фамилия гимназического учителя словесности Rat, но гимназисты, люто ненавидящие своего наставника, прозвали его Unrat, добавив отрицательную частицу, так что кличка стала означать «навоз», «нечистоты» и прочие мерзости. В заштатном провинциальном городишке учитель - заметная фигура. Он преподавал литературу много лет, внушая стойкую ненависть ко всем немецким классикам и страх перед учителем.
Генриха Манна занимала парадоксальная ситуация, как ничтожество волею обстоятельств становится тираном. Но блюститель нравственности на старости лет влюбился в кафешантанную вульгарную певичку, которая согласилась стать фрау Унрат. Гимназическое начальство не могло дольше сквозь пальцы смотреть на шалости апологета Шиллера и Гете и выставило его из учебного заведения. Но вчерашний блюститель морали становится растлителем своих бывших воспитанников в собственном доме, превращенном в притон. Умер в Америке 12 марта.
Томас Манн (1875 - 1955). Автор «Будденброков » (1901) был признан классиком немецкой литературы сразу же после выхода в свет романа, в основу которого были положены семейные предания. Т. Манн воссоздал биографию четырех поколений бюргерского клана.
Иоганн Будденброк-старший нажил свое состояние, подобно бальзаковскому отцу Горио, в пору наполеоновских войн, снабжая прусскую армию фуражом и хлебом. Человек скептического ума, наделенный деловой хваткой, он удачлив в коммерции и счастлив в семье. Однако роман неслучайно имеет подзаголовок «История гибели одного семейства», потому что в роду Будденброков обнаруживаются чуждые побеги на их генеалогическом древе.
Сын Иоганна Готхольд презрел семейный бизнес, откололся от клана, совершил мезальянс да к тому же еще промотал свою часть наследства. Это первый удар по Будденброкам, от которого они сумеют оправиться, ибо дела аккуратно ведет Иоганн Будденброк-младший, детям которого - Антонии и Томасу - предстояло стать центральными персонажами семейной хроники.
С детских лет Тони осознала ответственность перед своей семьей. Она не посмела выйти замуж по любви, без согласия родителей. Тони находит для себя радость в подчинении родительской воле, но дважды ей суждено пережить разочарование в браке. Обаятельная Тони прожила жизнь, полную разочарований, послушание обернулось моральным поражением.
Томас Будденброк - человек долга. Он становится во главе фирмы, так как его брат Христиан - паяц и лицедей - не способен вести дела. Для отца и деда оптовая торговля зерном была естественным занятием, для Томаса - это обязанность, он должен заставлять себя заниматься коммерцией. Стоило ему проникнуться пессимистической философией Шопенгауэра, как все его усилия поддержать авторитет фирмы оказались тщетными.
Томас Будденброк, как и отец автора, был женат на латиноамериканской красавице-музыкантше. Единственного сына Томаса и Герды назвали в честь прадеда и деда Иоганном. Домашнее его имя - Ганно. Он последний в роду и интуитивно чувствует это. Лишенный воли к жизни, он живет в мире своих грез и музыки. Обычная детская болезнь оказалась для него роковой, потому что в его натуре нет запаса жизненной прочности.
Томас Манн отмечал, что «Будденброки» создавались в традициях натурализма. Он полагал, что семья, подобно живому организму, возникает, развивается и угасает. Историческая причина ухода Будденброков в небытие в том, что бюргерское сословие вытесняется классом буржуазии, агрессивности которой патриархальные Будденброки не могут противостоять.
Не менее важной причиной гибели семейства, по Томасу Манну, было то, что в недрах Будденброков рождались художники, музыканты, артисты, философы, чуждые прагматизма, неспособные к коммерции и финансовым операциям. Характерно, что рискованный проект, который пытался осуществить Томас Будденброк, приводит к краху фирмы как раз накануне ее юбилея.
Томаса Манна в новеллах «Паяц» (1897), «Тристан» (1901), «Смерть в Венеции » (1913) волновало внутреннее противоборство мятущегося художника и добропорядочного бюргера. Общественным и семейным добродетелям законопослушного бюргера он противопоставлял богемного гения, который чужд прагматизма, служа искусству. Не месть ли его настигла в Венеции за умышленное отшельничество от многообразия жизни?
Бертольт Брехт (1898 - 1955) - выдающийся немецкий драматург, теоретик драмы, режиссер, прозаик и поэт. Учился в Мюнхенском университете, изучал литературу и философию, а затем медицину. В 1918 году был мобилизован в армию, служил санитаром в одном из госпиталей в Аугсбурге. Политически активный юноша был избран членом солдатского совета. В 1919 - 1923 годах он возобновил учебу в Мюнхенском университете.
«Трехгрошовая опера » (1928) имела триумфальный успех. Он воспользовался сюжетом «Оперы нищих» английского драматурга Джона Гэя, написанной двести лет назад. Брехт вывел на подмостки обитателей лондонского дна и грабителей, нищих и представительниц древнейшей профессии не для того, чтобы зритель сокрушался по поводу их бедственного положения, вынудившего их встать на пагубный путь. Подонки у Брехта такие же дельцы, как и представители лондонского Сити. У них существуют свои фирмы, процветает свой бизнес. Нищенство - такая же профессия, как игра на бирже. Автор поставил знак равенства между миром преступным и респектабельным.
Важнейший принцип брехтовского искусства - «отчуждение». Знакомые жизненные и литературные коллизии предстают в эпических пьесах Брехта всегда в неожиданном ракурсе. Это должно было стимулировать мысль зрителя или читателя.
Вершиной драматургии Брехта явилась драма «Жизнь Галилея » (первая редакция 1939, вторая - 1946). Герой пьесы, великий ученый Галилео Галилей, напуганный инквизицией, отрекается от своего открытия. Суть драмы заключена в диалоге Галилея и его ученика Андреа Сарти. Ученик бросает учителю обвинение: «Несчастна та страна, у которой нет героев». Учитель парирует: «Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях». Открытие Галилея, перевернувшее всю солнечную систему, раскрепостило ренессансную личность, освободив человека от божественной опеки. Но свобода опасна, и первым это осознал сам Галилей. Великий мыслитель, каким его изображает Брехт, корыстолюбив, хитер, труслив.
В пьесе «Жизнь Галилея» разворачивается не только трагедия великого астронома и математика, но и трагедия всего человечества в целом. Галилей как изобретатель и ученый оказался по чисто человеческим моральным качествам ниже своего открытия.
Эрих Мария Ремарк (1898 - 1970 ) семнадцатилетним мальчишкой сразу после окончания гимназии попал на фронт, где был пять раз ранен. После войны он недолго учительствовал в провинции, затем переселился в Берлин. В пору жесточайшей инфляции приходилось браться за любую работу. Потом эти профессии - учителя, автогонщика, органиста в церкви психлечебницы, рабочего кладбищенской гранитной мастерской, журналиста - он передал своим героям. Ремарк, вернувшийся с войны, написал роман «На Западном фронте без перемен », потрясающий своей правдивостью. Автор выступал в нем не просто как очевидец случившегося, а как участник и жертва.
Молодые люди, оказавшиеся на фронте, жили, сопротивляясь властям, отстаивая свое право существовать на этой земле. Их превратили в подобие скотов. Лишенные нормальных условий жизни, они озабочены лишь тем, чтоб посытнее поесть да подольше поспать, пока не послали на передовую. Если желудки набиты жратвой, - значит, все нормально. Но эти, казалось бы, обесчеловеченные, ко всему привыкшие солдаты остаются людьми. Рассказывая свою историю, Пауль Боймер почти всегда говорит «мы». Он не отделяет себя от своих бывших одноклассников.
Ремарк показал войну из окопа. Традиционной батальной романтике он противопоставил правду обычного честного человека, который вынужден убивать, чтобы не быть убитым. Ярче всего Ремарк сказал об этом в эпизоде, где главный герой Пауль Боймер, не раздумывая, убивает ножом французского солдата, а затем проводит мучительные часы рядом с трупом, когда неизвестного вражеского солдата, помимо воли, Боймер уже воспринимает как близкого человека, своего ровесника. Сам Пауль Боймер будет убит в один из последних дней войны. А во фронтовых сводках появится безликая фраза: «На Западном фронте без перемен».
Книги о тех, кто не вернулся с фронта или возвратился физически и духовно искалеченным, стали называть литературой «потерянного поколения». Книги Ремарка стоят в одном ряду с романами Э. Хэмингуэя «Прощай , оружие» и «Смерть героя ». Эти писатели показали духовную и физическую драму молодых людей, которых правители послали на фронт.
В 1933 году их книги нацисты бросили в костер. Ремарк в 1939 году переселился в Америку. «Три товарища» (1939 ) написаны в период скитаний. Хотя в тексте не найти слов «фашизм» или «нацизм», роман предрекал горестную будущность «потерянному поколению».
В двадцатые - тридцатые годы слово «товарищ» на разных языках обозначало товарища по партии и классовой борьбе. Ремарк возвращал слову «товарищ» его изначальный смысл. У Роберта Локампа, от лица которого ведется рассказ, двое друзей: Отто Кестнер и Готфрид Ленц. Они и есть три товарища. У них общая автомобильная мастерская, в которой ими восстанавливаются машины, чудом не попавшие на свалку.
Человека, который рядом с ними, а тем более товарища они в обиду не дадут. Крутым парням Ремарка чужд глобальный гуманизм, они просто порядочные и сильные люди, а помощь их всегда конкретна. Герои «потерянного поколения» сдержанны и ироничны с женщиной, чувственность у них опережает чувства. В «Трех товарищах», да и в других книгах Ремарка страсть нарастает постепенно, и в какой-то момент герой постигает, что любовь есть самая большая ценность, что только ради этого стоит жить. Однако у Ремарка счастье обречено быть кратким.
Романы Ремарка «Возлюби ближнего своего» (1940) и «Триумфальная арка » (1946) - это злоключения беглецов, чудом вырвавшихся из лап гестапо.
Главный герой романа «Время жить и время умирать» (1954) отпускник Гребер весной сорок пятого приезжает в родной город на побывку, но не может найти ни родного дома, ни знакомой с детства улицы - всё в руинах. Родители, вероятно, погибли во время бомбежки. Возникает короткая вспышка страсти. Он убеждает Элизабет выйти замуж за него, ибо точно знает, что погибнет, так пусть она хотя бы будет получать вдовью пенсию. Герой разуверился в нацистской идеологии, он готовится перейти на сторону русских. Но в этот решительный момент погибает от пули партизана. Ремарк стремился сказать, что тот, кто в момент исторических катаклизмов окажется между противоборствующими силами, обречен. Политический антагонизм убивает мыслящую личность.
Когда говорят о модернизме , неизменно называют имена выдающихся писателей двадцатого столетия. Марсель Пруст (1871 - 1922), Франц Кафка (1883 - 1924 ) каждый на свой лад изменили представление о мире, человеке и литературе. В отличие от писателей-реалистов, знавших своих персонажей досконально, герои их романов для самих авторов являют собой таинственную загадку, которую они пытаются расшифровать вместе с читателем. Вследствие этого текст романа представляет собой как бы незавершенный эскиз, принципиально ассоциативный, хаотичный, рождающийся будто в присутствии читателя.
Основной мотив многотомной эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1913 - 1927 ) - человеческая память. Марсель - героя зовут, как автора - вследствие болезни обречен на затворничество. Он пытается в процессе сочинительства прожить жизнь заново. Это мемуары о себе самом и окружающих, поскольку они какими-то мелочами и деталями запечатлелись в памяти.
Франц Кафка сочинял мифы сам . Он выступал как мифотворец, тексты его произведений представляют собой оригинальный шифр, разгадать который не так-то просто.
Жизненной бедой Франца Кафки было то, что он оказался между наций, классов, культур, религий. Будучи евреем по национальности, он имел мало общего с еврейской религиозной общиной. Ему были чужды коммерческие интересы отца: сын торговца, он стал буржуазным чиновником, и это, разумеется, не было его призванием. По служебным обязанностям он ежедневно сталкивался с рабочими, но симпатия к ним не могла преодолеть разделяющего расстояния. Родным языком писателя был немецкий, что неизбежно отделяло его от чешского населения Праги. Среди немцев и австрийцев, приближенных к имперскому правительству, он не мог и не хотел стать своим. Болезнь - тяжелая форма туберкулеза - усилила отчуждение. В силу этих причин Кафка жил как бы в одиночном гетто. Отсюда во многом проистекает и пристрастие автора к самоанализу. Он ненавидел свое одиночество, терзался и страдал от того, что был нелюдим и нелюбим, но и не мог расстаться с привычным мучительным одиночеством. Для него оно было единственным способом существования и главной темой творчества.
«Процесс» - центральная книга Ф. Кафки, к которой он приступил в 1914 г. В «Процессе» мир являет собой замкнутое пространство, здание возведено, и все его коридоры и тупики пройдены героем. Испытание ума, чувств и совести закончилось поражением. Художественное видение и авторская логика обретают здесь всеобъемлющую полноту, хотя, разумеется, универсальность эта мнима.
«Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест», - так было положено начало процессу. «Процесс пошел», - скажет потом известный политик, не подозревая, что он цитирует Кафку. Йозеф К., крупный банковский чиновник, арестован в день своего тридцатилетия, стража появилась у его постели, едва он проснулся. Все необычайно в этом аресте и последовавшем затем процессе. Арестованному не предъявляют никакого обвинения, не пытаются создать даже видимость вины. Но вместе с тем невиновность отвергается в принципе. После акта ареста обвиняемому оставляют свободу, точнее, начало процесса не должно мешать вести обычную жизнь и выполнять повседневные обязанности. Это позволительно, ибо закон всемогущ, а «вина сама притягивает к себе правосудие».
Йозеф К. сам вовлекает себя в сферу действия таинственного и непостижимого закона. Парадокс, но попытка оправдания становится признанием вины. В течение года происходит насильственное разрушение личности. В борьбе Йозефа К. с зачинщиками и устроителями процесса летальный исход неминуем. В ходе разбирательства, как объясняет адвокат, «ставка делается на самого обвиняемого», но уже самое начало процесса поражает человека изнутри, парализует его силы, делает его подвластным суду.
Стержень новеллистики Франца Кафки - отторжение человека от людей. «Превращение» (1914) - самый известный рассказ Ф. Кафки. Мучительные раздумья о собственной участи и судьбе соотечественников и современников выплеснулись здесь в пессимистическое устрашающее повествование. Первая встреча с исполнительным дисциплинированным коммивояжером Грегором Замзой происходит, когда случилось два чрезвычайных происшествия. Грегор, из-за того что проспал, опоздал на поезд в очередную служебную поездку, так что теперь ожидается неминуемый грозный разнос. Но куда страшнее второе. Скромный молодой человек, любящий сын и брат, усердный служащий фирмы превратился в членистоногое чудище. Как, почему он превратился в насекомое, автор не объясняет, зловещая метаморфоза не мотивируется Кафкой: так случилось. Остается это принять и следить за последствиями происшедшего. Что касается небрежения к служебным обязанностям, то возмездие и здесь грядет незамедлительно. Пустячного опоздания достаточно, чтобы управляющий сам явился для выяснения причин и выговора. Герой Кафки находится в ряду «маленьких людей», он сродни Башмачкину или Макару Девушкину. Заботы, забитость, запутанность, мизерные радости показывают, что герой находится где-то у подножия иерархической лестницы. Превращение в насекомое - это метафора его социально-психологического состояния.
В 1924 г. Андре Бретон (1896 - 1966) опубликовал «Манифест сюрреализма », основные положения которого сводились к следующему: воплощение подсознательного, сновидения, как предмет изображения, чудеса и случайности как сюжетобразующие. Широкое хождение получил афоризм А. Бретона, заявившего, что искусство начинается, когда швейная машинка встречается с зонтиком на операционном столе.
Теоретики сюрреализма отдавали предпочтение визуальным искусствам перед вербальными. От поэта же требовалось сочинять не думая, когда на него набегает волна грез и галлюцинаций, которую он призван зарегистрировать, ничего не привнося от себя. Живопись и литература выражали «коллективное бессознательное». Теоретический постулат нашел свое выражение в совместном сочинении стихов и прозы, например, цикл стихотворений «Замедлить ход работы» (1930), написанный совместно П. Элюаром, А. Бретоном и Р. Шаром.
В период оккупации Парижа германскими нацистами французская культура переживает необычайный расцвет. Выходят в свет романы Ж.-П. Сартра и А. Камю. Их пьесы ставятся на самых престижных французских сценах.. В годы войны сочиняет сказку «Маленький принц» летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Продолжает сочинять криминальные истории о расследованиях комиссара Мегрэ Жорж Сименон. В чем причина столь интенсивного расцвета французского искусства? Объяснение феномена очевидно: все деятели французской культуры были связаны с движением Сопротивления. Борясь с навязываемым французам фашистским режимом, писатели и журналисты, живописцы и деятели театра отстаивали национальные ценности, боролись за сохранение гуманистических традиций французской демократии.
Жан-Поль Сартр (1905 - 1980) приобрел известность в кругах французской интеллигенции как философ и прозаик в предвоенные годы, в период борьбы с фашизмом он становится одним из столпов Сопротивления, идеологом левой интеллигенции, взявшей на вооружение концепцию экзистенциализма, разработанную и пропагандируемую им в публицистике, драматургии и прозе.
Основной пафос экзистенциализма как философии существования призван помочь личности преодолеть отчаяние одиночного бытия и сделать правильный выбор самого себя. Упразднив идею Бога-творца, Сартр и его единомышленники предоставили человеку свободу быть самим собой. Но свобода - акцентируют экзистенциалисты - это прежде всего ответственность. Что такое человек? Это комочек плазмы во вселенной. Однако поступать всегда надо так, будто взоры мира устремлены на тебя. «Для экзистенциалистов - наставлял Сартр, - человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам». Одно из ключевых понятий экзистенциализма - выбор. На протяжении всего своего существования человек выбирает себя, близких себе и антагонистов. У каждого есть свобода выбора, ибо человек осужден быть свободным, он отвечает за все свои свершения. Одна из задач литературы в этой связи - предостеречь от неправильного выбора.
Герой Сартра антибуржуазен. Он не приемлет буржуазные ценности и самый уклад жизни среднего класса. Об этом заявлено в романе «Тошнота» (1938). Его герой Антуан Рокантен - полная противоположность персонажам Бальзака или Стендаля. Он не стремится сделать карьеру. Как мелкий рантье он обеспечен, как интеллектуал он удовлетворяет свои амбиции, занимаясь биографическими изысканиями о маркизе Рольбоне, ставшем одной из жертв якобинцев. Штудируя источники в библиотеке, он время от времени совершает вылазки в провинциальный городок, где почтенные обыватели вызывают у него тошнотворное чувство своей спесью и заурядностью. Его общение с людьми происходит всегда по касательной: соприкоснувшись со случайным знакомым, коллегой, любовницей или возлюбленной, он тут же спешит отпрянуть прочь. Для сартровского героя свобода - синоним одиночества.
В рассказе «Герострат» из того же сборника Сартр сосредотачивает внимание на персонаже, к которому больше всего подходит определение «никакой». Он, как и герой романа Камю «Посторонний», написанного несколько позже, чужой среди людей. У него нет никаких контактов с соседями, сослуживцами и женщинами. Отчужденность превращается в ненависть. Вооружившись револьвером, он расстреливает случайных прохожих на улице, самоутверждаясь через насилие. Современный Герострат полагает, что совершенное им преступление прославит его хотя бы на какое-то время.
В аллегорической пьесе «Мухи », написанной на сюжет эсхиловской «Орестеи», жителей Аргоса от полчища кусающих мух должен освободить сын Агамемнона. Кара жителям Аргоса ниспослана за убийство царя. Они смирились как с преступлением, так и с наказанием. Жители Аргоса пассивны, им все равно, свобода или угнетение, они притерпелись к мухам, выполняющим в пьесе гротескную роль эриний. Орест - мститель, Орест - освободитель, но героизм Ореста - это еще одно кровавое насилие.
В послевоенные годы в Париже, в Риме, в Лондоне и Москве ставились философские драмы Сартра «Только правда», «Почтительная потаскушка», «Затворники из Альтоны». Сартр создавал проблемные и остроактуальные драмы. «Затворники из Альтоны », которую экранизировал итальянский режиссер Витторио де Сика, была особенно популярна в 60-е гг.
Действие ее происходит в пригороде Гамбурга Альтоне в семействе Герлахов, которому принадлежит мощная судостроительная фирма, где занято сто тысяч рабочих. У старого Герлаха своя жизненная философия - строить во что бы то ни стало и этим служить своему правительству, а кто в нем (пусть даже выскочка Гитлер), какова его политика - не суть важно. Таково своеобразное понимание жизненного долга. Герлах самокритичен, уязвимость его жизненных принципов для него очевидна, но преступную ложь надо запрятать поглубже, потому так искусно разыгрывается им трагифарс мнимой гибели старшего сына. Атмосфера в доме Герлахов нагнетается, зритель ждет неизбежного появления добровольного узника - Франца фон Герлаха.
Пятнадцатилетнее затворничество бывшего офицера гитлеровского вермахта - идейный стержень пьесы. Ситуация в общем-то искусственная. Главная причина самоизоляции - нежелание участвовать в современной жизни, попытка сохранить в памяти разрушенную послевоенную Германию. Франц - безумец, но он лишь играет в безумие, стремясь избавиться от своего слишком трезвого сознания, от памяти, от войны. Франц знает за собой страшную преступную вину, но он не признает право судить его за официальными властями, которые виновны не меньше его. Отсюда и возникает множественность этого сложнейшего образа: Франц сам для себя обвиняемый, судья и защитник, сам узник и сам тюремщик. Семейство Герлахов невольно сравниваешь с клубком змей: все ненавидят друг друга, но теснее прижимаются друг к другу, чтобы жалить. Общность вины связывает их. Франц любит и ненавидит отца, ощущая себя его двойником, - ведь все, что совершал Франц, провоцировал его отец.
Альбер Камю (1913 - 1960 ) - единомышленник и оппонент Сартра. Разделяя общие положения экзистенциалистской доктрины, Камю в отличие от Сартра отрицательно относился ко всякого рода революционным выступлениям и резко осудил его попытку найти общий язык с коммунистами и разного рода леваками. Сартр дважды приезжал в нашу страну, где его с почетом принимали, - Камю отказывался от визита в Советский Союз, который представлялся ему оплотом тоталитаризма. Не менее критично он относился и к странам Запада, где, по его мнению, свобода личности подавлена капитализмом.
В трактате «Миф о Сизифе» (1942 ) он утверждал абсурдность человеческого бытия. «Пролетарий богов Сизиф» осужден втаскивать на гору камень, который тут же катится вниз. Сизиф обречен делать это бесконечно. Камю увидел в этом модель человеческого поведения: достигнуть цели невозможно, но следует выполнять свое предназначение без надежды на успех.
Альбер Камю в публицистике и творчестве выступал против бунтующего человека, который был для писателя синонимом террориста. Насилием мир не изменить, но и государство не вправе карать того, кто нарушает его законы. В эссе «Размышления о гильотине » он утверждал: «Приговорить человека к высшей мере наказания - значит решить, что у него нет ни малейшего шанса искупить свою вину».
Эта мысль положена им в основу первого романа «Посторонний» (1942 ). Снова перед нами «никакой человек», ведущий существование на физиологическом уровне; среди себе подобных он абсолютно чужой в силу атрофии чувств. Мерсо совершает немотивированное преступление - стреляет в араба, с которым произошла пустяковая стычка. Преступник по логике автора является жертвой общества, которое более бесчеловечно, чем тот, кого оно судит. Между тем в Мерсо неотвратимость гильотины пробуждает человеческие чувства, он пытается сопротивляться напору прокурора и судей, хотя бессилен их опровергнуть. На смерть очеловеченный Мерсо идет с тупым безразличием.
«Чума» (1947 ) - один из самых знаменитых романов ХХ в., текст открывается знаменательной фразой: «Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194… году». Итак, сразу завязка: Оран охвачен эпидемией чумы. Первым признаком смертельной болезни стали дохлые крысы, затем - умирающие люди, десятки, сотни, тысячи. Сначала власти не хотели замечать бедствия, но город пришлось изолировать от внешнего мира и начать безнадежную борьбу с чумой. Романист сосредоточен на исследовании различных моделей поведения. Криминальные элементы радует беда, потому что угроза смерти уравняла их с законопослушными гражданами. Заезжий журналист пытается вырваться из карантина, он, дескать, неместный. Однако и ему суждено стать пленником чумного города, в котором нет чужих, все в одинаковом положении.
Священник бичует граждан Орана за их грехи, которые вызвали кару Господню. Но когда человек оказался в земном аду, ад небесный уже не так страшен. Позиция самого автора совпадает с поступками главного героя доктора Бернара Риэ, который первым поставил диагноз и возглавил отряд по борьбе с чумой. Он лучше других понимает, что победить чуму нельзя, но можно облегчить страдания умирающих и их близких. Он действует без надежды на успех, но бороться с чумой велит ему долг врача и человека.
Жоржи Амаду (1912 - 2001) обладал великолепным чувством юмора, однако его творческий путь сложился таким образом, что ему было не до смеха. Писатель-коммунист двадцать лет прожил в эмиграции. Амаду вернулся на родину в Мексику в 1958 г. Начиная с ранних произведений его притягивала народная жизнь. Успех к нему пришел после выхода в свет романа «Генералы песчаных карьеров» (1939), в котором он показал бездомных подростков, нищих и гордых, способных на воровство и самопожертвование.
Комическая стихия формирует атмосферу романов «Дона Флор и два ее мужа» (1969), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1972), «Тьете из Агресте» (1976), «Похищение святой» (1989 ). Писатель выступает в них как лукавый остроумный собеседник, который умеет рассказать забавный анекдот, у него в запасе множество забористых шуток, а в итоге всем весело вопреки горестям и потерям.
Габриэль Гарсиа Маркес (род. 1928) занимает центральное место в литературном процессе латиноамериканских стран. Лауреат Нобелевской премии (1982) колумбийский писатель первые рассказы опубликовал, когда ему было двадцать лет. Однако заметным дебютом стало появление повести «Полковнику никто не пишет » (1956). Маркес и сегодня считает ее лучшим своим произведением.
Полковнику и его жене суждено пережить потерю сына, расстрелянного за то, что юноша написал антиправительственную листовку. Старый больной человек несгибаем. Он живет памятью о сыне и верой в справедливость. В повести «Полковнику никто не пишет» действие происходит в захолустном колумбийском поселке, где-то неподалеку находится упоминаемый в повести городок Макондо, в котором будут сосредоточены все события романа «Сто лет одиночества» (1962). Но если в повести «Полковнику никто не пишет» заметно влияние Э.Хемингуэя, изображавшего сходные характеры, то в романе ощутима традиция У.Фолкнера, досконально воссоздавшего крохотный мир, в котором отражены законы вселенной.
Городок Макондо, основанный родоначальником семейного клана Буэндиа, любознательным и наивным Хосе Аркадио, на протяжении ста лет остается центральной площадкой действия. Оторванный от мировых центров, затерянный в тропической глуши Макондо - знаковый образ, в котором воедино слились местный колорит полудеревенского селения и черты мирового города, характерные для современной цивилизации. То, что случилось в Макондо, автор трактует как события, которые происходят здесь и везде, ибо их уникальность соединена с типичностью.
В зарубежной литературе 19 века выделяются два основных течения: романтизм и реализм. Так как эти течения развивались почти одновременно, они наложили друг на друга заметный отпечаток. Особенно это относится к литературе 1-й половины 19 века: творчество многих писателей-романтиков (Вальтер Скотт, Гюго, Жорж Санд, Байрон и др) имеет целый ряд реалистических особенностей, тогда как творчество писателей-реалистов (Стендаль, Бальзак, Мериме, Золя и др) нередко окрашено романтизмом. Не всегда бывает легко определить, куда следует отнести творчество того или иного писателя - к романтизму или реализму. Только во 2-й половине 19 века романтизм окончательно уступает место реализму.
Романтизм связан французской буржуазной революцией 1789 года, с идеями этой революции. На первых порах романтики приняли революцию восторженно и возлагали очень большие надежды на новое буржуазное общество. Отсюда характерная для произведений романтиков мечтательность, восторженность. Однако скоро стало очевидно, что революция не оправдала надежд, возлагавшихся на нее. Люди не получили ни свободы, ни равенства. Огромную роль в судьбах людей стали играть деньги, которые, в сущности, поработили их. Для того, кто был богат, открылись все пути, удел бедняков по-прежнему оставался печальным. Началась страшная борьба за деньги, жажда наживы. Все это вызвало у романтиков жестокие разочарования. Они стали искать новых идеалов - одни из них обратились к прошлому, начали идеализировать его, другие, наиболее прогрессивные, устремились в будущее, которое им рисовалось чаще всего туманно и неопределенно. Неудовлетворенность настоящим, ожидание чего-то нового, стремление показать идеальные отношения между людьми, сильные характеры - вот что характерно для писателей-романтиков.
Реализм в противоположность романтизму интересовался преимущественно сегодняшним днем. Стремясь возможно более полно отразить в своих произведениях действительность, писатели-реалисты создали большие произведения (самым любимым их жанром был роман) со множеством событий и героев. Они стремились отразить в своих произведениях характерные для эпохи события. Если романтики изображали героев, наделенных какими-то остро индивидуальными чертами, героев, резко отличавшихся от окружающих людей, то реалисты, наоборот, стремились наделить своих героев чертами, типичными для множества людей, принадлежавших к тому или другому классу, к той или другой социальной группе
Реалисты не призывали к уничтожению буржуазного общества, но они изображали его с беспощадной правдивостью, резко критикуя его пороки, поэтому реализм 19 века принято называть критическим реализмом.
Гюго. Роман «Собор Парижской Богоматери». Яркий захватывающий сюжет. Основные моменты сюжета, связанные с главными персонажами: Квазимодо и Эсмеральдой. Главная идея – проповедь милосердия. Показ иррациональности человеческой души через образ Клода Фролло. Слепая любовь Эсмеральды к Фебу. Самоотверженная любовь Квазимодо к Эсмеральде.
«Человек, который смеётся». Основной сюжет. Образ развратной аристократки Джозианы, влюбившейся в урода. «Девяносто третий год»: воспевание романтического гуманизма, который с точки зрения разума и реальной жизни не только глуп, но и часто преступен.
Творчества Бальзака (1829-1850) отмечен становлением и развитием реалистического метода писателя. В это время он создает такие значительные произведения, как "Гобсек", "Шагреневая кожа", "Евгения Гранде", "Отец Горио", "Утраченные иллюзии" и многие другие. Господствующим жанром в его творчестве являлся социально-психологический роман сравнительно небольшого объема. Существенные изменения претерпевает в это время поэтика этих романов, где в органическое целое соединяются социально-психологический роман, роман-биография, очерковые зарисовки и многое другое. Важнейшим элементом в системе художника стало последовательное применение принципа реалистической типизации.